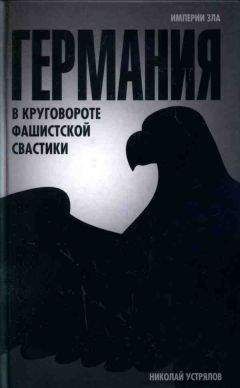от ее тяжкой болезни. И вот пробил час этого великого потрясения.
3
Империя, когда-то вздернувшая Россию на дыбы, а затем пропустившая время умело «ослабить поводья», – рухнула. Начальство ушло, и у государственного руля в трагичнейшую минуту нашей национальной истории внезапно очутилась сама русская интеллигенция – со всеми ее навыками, со всеми ее идеями, со всем ее прошлым.
Я никогда не забуду одного московского впечатления тех весенних, мартовских дней, первых дней свободы. – Оживленная, радостно гудящая улица. Среди бесконечных грузовиков с солдатами, весело приветствовавшихся толпой, вдруг появились два или три силуэта, вызвавшие повсюду особенный восторг, усиленные приветствия, исключительно бурный энтузиазм. Умиленный, прерывающийся шепот слышался повсюду по мере их приближения: – «это из тюрьмы, освобожденные узники, еще 905 года, и раньше…» И пели марсельезу – тогда еще «Интернационал» не приехал, – и самозабвенно кричали «ура»…
Автомобили поравнялись со мною, и я увидел этих людей. Каким-то странным и в то же время уместным, волнующим контрастом выделялись они на фоне всеобщего торжества и весеннего опьянения. Бледные, исхудавшие, «прозрачные» лица, большинство еще в арестантских халатах, – глаза блестящие, словно ослепленные неожиданным светом, устремленные поверх толпы, поверх действительности, куда-то вдаль, в пространство, и даже за грани пространства —
За пределы предельного,
В бездну светлой безбрежности.
«Исступленные», – как их гениально определил в свое время Достоевский…
Из тюрьмы, из мрака многолетнего заключения, они сразу устремлялись на вершины политической власти. Из Бутырок при радостных криках толпы они проехали прямо в Кремль.
4
История вручила им судьбу России. С каторги, из недр сибирских захолустий, из душных эмигрантских кофеен Парижа и Женевы, с восточных кварталов Нью-Йорка – отовсюду потянулись к русским столицам любимые сыны русской интеллигенции, ее герои и мученики, обретшие, наконец, право свое. И лозунги подполья превратились в программу власти.
Правда, в течение первых недель февральско-мартовского переворота эти лозунги подпольных людей еще выдержали краткую борьбу с теми группами русской общественности, которых опыт первой революции и великой войны уже успел несколько отклонить от ортодоксального символа интеллигентской веры. Но и здесь, как в эпизоде с «Вехами», победила традиция, да и сами новаторы, впрочем, оказались весьма сговорчивыми, нетвердыми в своем «ревизионизме»: недаром же непротивленческое правительство князя Львова выслало почетный караул навстречу Ленину после его эффектного переезда Женева – Берлин – Петроград…
Крушение Временного Правительства обозначало собою кризис не только исторический и политический, но и внутренний, идеологический. Соприкоснувшись с государством и остро почувствовав свою ответственность за него, широкие круги интеллигенции принялись за пересмотр своего поколениями накопленного политического багажа. Но было уже поздно, и логика жизни, отбросив колеблющихся, вызвала «последовательных до конца». В этом сказалась не только естественная закономерность событий и процесса идей, – тут проявился глубокий и разумный смысл совершающегося. Кризис интеллигентского миросозерцания должен был быть углублен, «пересмотра» одной только политической идеологии было недостаточно. Началось с политики, – перебросилось во «внутрь», в царство духа. Сама политика от «мелких дел» перешла к широким масштабам, дерзновенным претензиям, подлинно «новым словам». Разверзлись духовные глубины, обнажились «последние» вопросы, полные всемирно-исторического значения и смысла. Грянула великая революция.
«Великой» она стала лишь к ноябрю 17 года. «В марте мы слышали только революционный лепет медового месяца и видели только робкие шаги родившегося общественно-политического обновления, – буря пришла потом, и только на мрачном и зловещем большевистском небе засверкали ослепительные зарницы» (Б.В. Яковенко, «Философия большевизма»).
Углубление революции совершалось с чрезвычайной быстротой. Мы видели, как облекались плотью и кровью давние фантазии русской интеллигенции, как жизнь от Рылеевской «Полярной Звезды» и Герценского «Колокола» перебрасывалась к Добролюбовскому «Свистку», а от него – к Ткачевскому «Набату». Мы пережили на пространстве нескольких месяцев какое-то магическое «оживотворение» истории русской политической мысли – от идей декабристов, от либерализма западников и славянофильского романтизма до нигилистических отрицаний шестидесятников, до утопий Чернышевского, до французских и немецких формул Бакунина. Слушали Рудиных, созерцали Волоховых, – болтали Степаны Трофимовичи, а вот пришло и младшее поколение, тут и Шигалевы, и Верховенские: «мы сделаем такую смуту, что все поедет с основ…» А рядом тут же – андреевские «Семь повешенных» с исповедью человеколюбцев-убийц:
Мою любовь, широкую, как море,
Вместить не могут жизни берега… [42]
Все это странно воскресло в подновленном, модернизированном наряде. И разразилось великим дерзновением, неслыханным, вдохновенным размахом… Страшный суд пришел – суд над духом и плотью русской интеллигенции.
И вот она увидела воплощенными мечты свои в их крайних выводах, в их предельно последовательном и четком выражении. Она реально ощутила неизбежный конец своего пути в изображении ярком и красочном, как был сам этот путь. Она познала плоды дум и дел своих.
Волевые, бесстрашно верные себе ее элементы грозой и бурей воплощали прошлое ее в настоящее. «Монахи воинствующей церкви – революции», они не испугались никаких инквизиций для реализации «золотого сна». Но масса, но «армия» интеллигентская содрогнулась. Эти реальные образы жизни показались ей страшными и безумными, и с ужасом отшатнулась она от них. Почувствовала, жизненно постигла всю ту бездну духовной опустошенности, в которой прежде видела высший закон мудрости. И когда погасли в ее сознании традиционные «светочи», ее ослеплявшие, – в наступившей тьме засияли светила подлинных и глубоких ценностей, ей прежде чуждых и далеких. На этот раз уже широкие массы ее и рядовые представители познали необходимость того коренного «пересмотра идеологии», который за 10 лет был предуказан ее авангардом: – заговорила тоска по государству, тоска по отечеству, тоска по внутреннему, духовному содержанию жизни.
Но ее воплощенное прошлое не простило ее отступничества. Вызванное к жизни и к власти, в своеобразном единении с пробужденной народной стихией, оно потребовало ее к ответу. Произошла трагическая борьба, в которой восставшая против самой себя, против своей истории, армия русской интеллигенции была разбита наголову. И вот снова она – словно в стане страждущих и гонимых, и опять ее жизнь – или мартиролог, или регистр каторги.
Но все же, эти новые муки – объективно осмысленнее, хотя, может быть, внешне, материально, они и более ужасны, а по обстановке своей более трагичны, чем прежние. Но эта трагичность – возвышающая, плодотворная. Уже нет в них той убийственной драмы, той безысходной внутренней порочности, пустоты, которая была в тех, в прошлых. Эти страдания – очищающие, эти жертвы – искупительные. Ими все мы, круговой порукой связанные русские интеллигенты, искупаем свою великую вину перед родиной. Ими мы воскреснем к новой жизни.
Поймем ли мы только это до конца? Удержимся ли от рецидива своих прежних настроений?