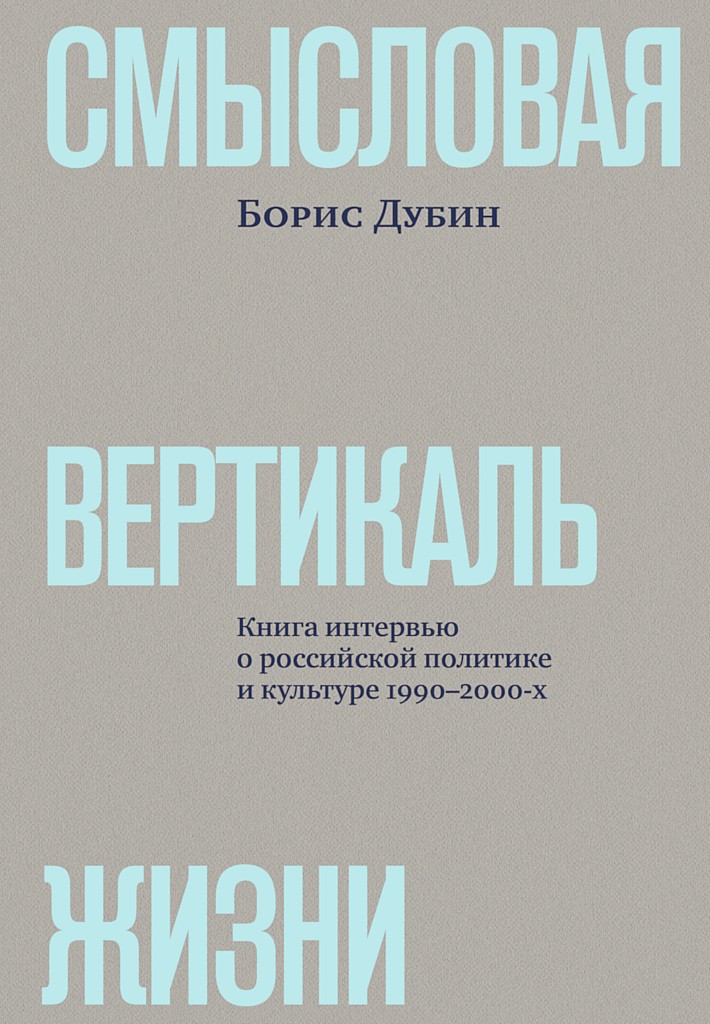по сути дела, четырех или пяти дисциплин, он столько же социолог, сколько антрополог, социальный психолог, а также это история, социологически прочитанная, социология, исторически усмотренная. Дисциплинарно это перекресток, узел, сад расходящихся тропок, можно сказать его же словами. И недаром сейчас мемориальные заседания, вечера проводят люди в разных дисциплинарных углах.
Борис действительно писал о многих вещах, в том числе по горячей политической тематике, и похоже, что закончил он свои публичные выступления именно на этом. Его интервью, которое стало знаменитым, данное за несколько месяцев до смерти, в самом деле предсмертное, только там он не свою кончину прозревал, хотя, быть может, и ее, но он ведь сказал, что это начало конца, приговорив или объявив диагноз нам всем. Я не уверен, что этот диагноз верен, но какой надо обладать силой, чтобы решиться сказать такое? Если это говорит не легкомысленный человек, который может воскликнуть: «А-а-а, все пропало, все ужасно!» — а человек, понимающий цену таким словам. На это надо решиться. Конечно, на подобное нас толкают и обстоятельства, но ты же принимаешь на себя ответственность за такое заключение, и он ее принял.
А. Б.: Я хотел добавить еще одну черту в продолжение того, что ты сейчас сказал. Меня поражало в нем также полное пренебрежение к званиям, к официальности, что очень несвойственно обычно России. Он даже не был кандидатом наук, всегда у него была позиция включенного, но в то же время не желающего до конца участвовать в этой академической или околоакадемической игре. Я думаю, это была очень важная его черта, что не мешало ему совершенно точно знать свою цену, я так бы даже сказал: у него не было ложной скромности, он знал: то, что он пишет, — это важно и имеет значение. Твой рассказ о том, как он стал социологом, мне напомнил, как он про одного своего хорошего знакомого говорил: когда они сидели в Ленинке, у него было впечатление, что он берет книжку и ее всасывает за полчаса, берет вторую — и тоже ее всасывает. Вот у меня было то же ощущение от Бориса: он просто все поглощал. А третье, более важное, что я хотел сказать, — это о жизни политической. И в его последнем интервью вся история ВЦИОМа (левадовского, конечно) показана как в хорошем смысле авантюра, попытка, которая в то время удалась, соблюдая научность социологической работы, включиться в политическую жизнь — не впрямую, не давая политические советы читателям, а давая, как говорил, кажется, сам Левада, зеркало, в котором общество сможет само себя увидеть, дать возможность возникновения общественного мнения. Мне кажется, это последнее интервью и последние месяцы и даже годы Бориса прошли под знаком того, что этот проект и эта реализация себя как ученого и в то же время как гражданина, говоря высоким стилем, привели к такому печальному концу. Я имею в виду, несмотря на все надежды, на все наши старания, мы пришли к тому, к чему пришли, и его глубокое отчаяние было вызвано осознанием, что общество, которому он во вциомовском варианте думал помочь родиться, так и не сложилось.
Позвольте воспользоваться в таком случае нашим авторским правом и задать следующий вопрос. Давайте немного перевернем схему вашего общего биографического рассказа. Могли бы вы отреагировать сначала на современный этап, начать с него? Что для вас этот исторический момент, как он влияет на ваше восприятие и истории, и России?
А. Л.: Я хочу начать. Я думаю, что мы правильно начали и закончили эту часть тем, что Борис сказал на прощание нам, и я думаю, из этой перспективы в самом деле можно смотреть и на момент текущий, на тот, который Борису уже удалось увидеть, и в ретроспективу. Я скажу, что глубочайший скепсис Бориса я разделяю, но, быть может, мои представления не носят такой эсхатологический характер, как у него, хотя бы потому, что, в отличие от него, я верю в маятниковый характер российской истории, но это не мистика истории, это ее механика. Поэтому нам — ну, не нам, так кому-то — придется еще увидеть и какие-то маленькие «оттепели», перестройки и все такое в этом роде, а с ними возникнут и новые надежды. Но что касается момента сегодняшнего, то по глубине погружения в антилиберальную фазу трудно найти параллели, особенно если принять во внимание такой параметр, как скорость погружения. Если взять вещи, которые в сталинское время достигались через годы-годы-годы и за счет выстраивания всяких институтов, прежде всего репрессивных и партийных, мы многие социально-психологические феномены этой поры наблюдаем здесь без всего этого антуража. Казалось, что все советское опирается на мощнейшие институты: армия, госбезопасность, КПСС, а мы сейчас имеем феноменологию советского без этих опор. Это не значит, что все то же самое, я совершенно не хочу сказать, что вернулся Советский Союз. Я говорю о феноменологии: она, оказывается, может существовать автономно, или она может опираться на те вещи, которые залегали глубже, чем все то, что называлось словом «коммунизм», имея мало отношения к этому коммунизму в серьезном терминологическом смысле. Поскольку удалось дойти до подосновы, до этого скального грунта имперско-державно-черт-знает-какого, на нем, оказывается, можно строить, не имея дополнительных конструкций. Это мое представление о том, что происходит сейчас. Запах у этого всего дела такой, что словами не хочется его описывать. Тут шутили очень много, что в Москве запах сероводорода был какое-то время назад не только по причине аварии на каком-то из предприятий, но и…
А. Б.: Я частично разделяю то, что ты сказал, но хотел продолжить немножко в другом ключе, а именно что меня тут отделяет от Бориса тоже — это идиотская вера, по-другому это нельзя назвать, в то, что Россия когда-нибудь станет Европой и что все цветы зацветут. Никак не могу избавиться от этого остатка моего коммунистического прошлого. И поэтому, хоть ничего рационального тут нет, тем не менее у меня остается надежда: все-таки, может быть, как-то это изменится когда-нибудь и что все-таки Россия — это Европа, хотя и, конечно, немножко странная. А то, что ты сказал, начало становиться ясно, когда пришел к власти Путин. С 2000 года идея советского человека постепенно начала заменяться другим. Мы все видим с большим удивлением, как форма, поведение, язык так быстро могут восстановиться. Если все это так быстро восстановилось, то это заставляет нас посмотреть на годы перестройки, начала 1990-х и сами 1990-е не как на начало эволюции куда-то, как мы на это смотрели тогда, а как на какую-то встряску. На