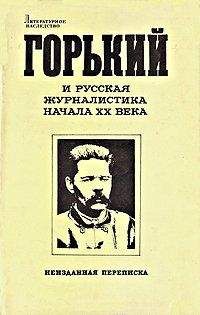— Лучше было бы не удивлять мир и жить в этом мире, — говорит Ибсен в своей последней драме.
Гений, жалкий и слепой пошляк, полусумасшедший человек, которому мы прощаем все его странности ввиду приносимой им пользы! И все-таки, мы все поклоняемся гению, единственному богу, в которого еще верит современность.
Нужны особого рода переживания, чтобы перевести свое внимание и любовь от полезного гения к людям, "из которых ничего не выходит", и хоть бы на минуту допустить мысль, что Миши Полтевы по крайней мере настолько же выражают собою смысл жизни, как и уравновешенные, спокойные деятели, сознательно осуществляющие в жизни высокие идеалы.
Это область Достоевского, область кладоискательства. Тургенев не признавался себе, на какой опасный путь вступил он. "Разум" — то, что он и что все люди считают в себе разумом — продолжал упорно стоять на страже прежних верований; и новые мысли, как это всегда бывает, проходили в душу Тургенева контрабандой, под разными ярлыками, скрывавшими их настоящий смысл. Толстого он осудил за "Исповедь". О Достоевском продолжал отзываться с тем же нескрываемым отвращением:
"... прочел я статью Михайловского о Достоевском. Он верно подметил основную черту его творчества. Он бы мог вспомнить, что и во французской литературе было то же явление, а именно пресловутый Маркиз де Сад, который даже книгу написал “Tourments et supplices", в которой он с особенным наслаждением настаивает на развратной неге, доставляемой нанесением изысканных мук и страданий... Достоевский тоже в одном из своих романов тщательно расписывает удовольствие одного любителя... И как подумаешь, что по этому нашему Маркизу де Саду все российские архиереи совершали панихиды и даже предики читали о вселюбви этого человека! Поистине, в страшное живем мы время!"... [Письмо к Салтыкову (М.Е.) от 24 сент. 1882 г. Письма, стр. 496, N.4З2.]
Тургенев считал, что он все еще вправе осуждать Достоевского. "Разум" всегда высказывается а priori — т. е. не сообразуясь ни с чем, кроме собственных привычек, которые он называет законами.
11
[Глава 11 отсутствует. На полях последнего листа рукописи значится: Рассуждения Тургенева об одиночестве.]
ПРИЛОЖЕНИЕ
[В Приложение вынесены листы рукописи, не пронумерованные автором.]
Глава З (1 вариант)
Пифагорийская система воспитания обрекала учеников на пятилетнее молчание. Теперь, со времени Песталоцци, такой прием считается дурным. Но в сущности, у нас ученики молчат, долго молчат — не пять, а десять и более лет — до тех пор, пока не научатся говорить, как их учителя. Потом им представляется свобода, которой они не умеют, да и не хотят воспользоваться. Может быть, у них были, или по крайней мере могли вырасти крылья, но они всю свою жизнь ползали по земле — где уж теперь им летать, даже верить или грезить о полете...
Есть у Тургенева не совсем удачный в художественном отношении рассказ "Довольно", в котором между прочим мы читаем следующие примечательные строки:
"Я привел стихи из Макбета, и пришли мне на память те ведьмы, призраки, привидения... Увы! Не привидения, не фантастические, подземные силы страшны; не страшна Гофманщина, под каким бы видом она не являлась... Страшно то, что нет ничего страшного, что самая суть жизни мелка, неинтересна и нищенски плоска!" [Т., "Довольно", т.6, стр.433.]
В этих строках, как и во всем, очень красиво, но бледно и безжизненно написанном рассказе, чувствуется долгие годы молчавший ученик. Молчание ему опостылело, но приученный к размеренным, заученным звукам язык не умеет и не смеет возвысить голоса.
Лучшее место рассказа — это знаменитый отрывок из монолога Макбета. В нем, как и во всем почти, что исходит от Шекспира, чувствуется присутствие вечной творческой силы жизни, так чудесно умеющей создавать великое из "ничто"! Ведь все трагедии Шекспира так написаны: человек все потерял и обратился в бедное двуногое животное — по выражению короля Лира — точно он боится новыми словами и звуками нарушить свой собственный и чужой покой.
Рассказ "Довольно" имеет своим источником приблизительно те же настроения, что и "Исповедь" Толстого. Но Толстой еще верит в себя и в свои силы, Толстому кажется, что его голос может пробудить и его и окружающих его людей, заколдованных злым волшебником. Он не знает еще как и когда произойдет пробуждение, но он смело бьет в набат. Тургенев же заранее справился у западных учителей, и они сказали ему, что все его усилия напрасны, что больше, чем выдумано до сих пор, никогда не выдумаешь, и что, стало быть, в лучшем случае, всякого рода субъективные настроения могут послужить материалом для художественного творчества или для построения философской системы. Нет в жизни ничего страшного — т. е. загадочного, обещающего, нового — есть только раз навсегда установленный порядок, полагающий начало и конец человеческой жизни. Тургеневу кажется, что так смотрел на жизнь и Шекспир, у которого он заимствовал несколько стихов, послуживших основной темой для рассказа. Тургенев в литературе, как Лист в музыке, нередко брался писать вариации на чужие темы (особенно шекспировские: например, "Степной король Лир", "Гамлет Щигровского уезда.") Это плохой, в общем, признак. Это значит, что писателем овладела летаргия, что он не доверяет своим глазам и хочет говорить с чужих слов. Обыкновенно, значительный писатель брезгует говорить понаслышке о вещах, которые он сам не видел. Ему кажется унизительным и скучным занятие передавать "своими словами" вычитанные из книг чужие впечатления. Да ему и не до этого! И как это ни странно, все такого рода опыты популяризирования свидетельствуют о том, что популяризатор не понял и не разобрал чего-то в избранном им авторе. В данном случае можно смело сказать: Тургеневу изменил его слух, он не услышал основной ноты макбетовского монолога и пленился только его видимой, внешней красивостью, которой и старался подражать.
Толстой тоже, как известно, не понимал Шекспира. И он в Шекспире прослушал главное, и ему показалось, что великий английский поэт заботится о "художественности" изображения, минуя наиболее мучительные и глубокие вопросы. Но граф Толстой, со свойственной ему решительностью, отверг Шекспира, как писателя поверхностного и незначительного, и взял в образец себе Святое Писание, простой, "голый" язык которого казался ему соответствующим глубокой серьезности мучивших его вопросов. И потому, как ни странно такого рода утверждение, у Толстого, отрицавшего Шекспира, несравненно более общего с великим английским поэтом, нежели у Тургенева. Шекспир в своих трагедиях, как Соломон Мудрый в "Экклезиасте" не рассчитывает наперед, к каким результатам приведет его мысль. Он, повинуясь чисто стихийному началу, идет вперед, разрушая на пути преграды, даже те, которые люди считают святынями.
Глава 3 (2 вариант)
Нет, впрочем, ничего удивительного в том, что Толстой и Достоевский считали Тургенева совершенным европейцем и не умели услышать в его произведениях близких и родных им звуков. Сам Тургенев едва ли отдавал себе ясный отчет в том, что с ним происходит. Он только смутно чувствовал, что европейский костюм не совсем ловко сидит на его русской фигуре, но ему всегда казалось, что время возьмет свое — по поговорке — стерпится, слюбится. Если и вспоминались ему прежние сны, он отгонял их от себя: он хотел быть взрослым и стыдился всего, что напоминало ему детство и юность. Первым признаком возмужалости в Европе считалось и до сих пор считается способность положительного мышления. И Тургенев во всех своих произведениях по мере сил своих старается доказать, что он не хуже любого европейца умеет "трезво" смотреть на жизнь и ее задачи. Мы уже видели, как он закончил свой "дневник лишнего человека". Лишину, лишнему человеку, нельзя, конечно, помочь, но можно привлечь внимание общества к причинам, порождающим лишних людей и принять меры к тому, чтобы в будущем уже не было подобных печальных явлений. То же и по поводу казненного Тропмана. Ужасно поступили с молодым преступником, но его уже не спасешь после того, как гильотина отделила его голову от туловища: нужно, по крайней мере, сделать все зависящее, чтобы предотвратить повторение подобных ужасов.
Европейская мысль 19-го столетия сознательно поставила себя в эти рамки и сделала это с такой твердостью и уверенностью, определенностью, что внушила покорность даже своевольным жрецам Аполлона. Выработалась своеобразная эстетическая теория, в силу которой даже задача художественной деятельности уже сводилась не к тому, чтобы изображать живого человека, а к тому, чтобы рисовать типы. Эта теория, между прочим, до сих пор не потеряла своего кредита — большинство современных критиков, обсуждая художественное произведение, прежде всего ставят этот праздный, ненужный вопрос: насколько типичны, т.е. широко распространены изображенные автором герои. Ибо, если автор заинтересовался не типом, а единичным человеком, всего только одним человеком и его судьбой, то какое значение может иметь такое произведение для общества? Оно может оказаться не только полезным, но прямо вредным, приковывая наше внимание к личным нуждам, вместо того, чтобы направлять его на широкие общественные задачи. Как известно, литературные критики всегда стремились "обезвредить" художественное произведение и, нужно отдать справедливость, проявляли в этом почтенном деле много искусства. Как бы опасно не было художественное произведение — после того, как оно побывало в руках критика и получило надлежащее истолкование, можно быть спокойным: оно не смутит уже никого. Ибо все, что в нем было загадочного и проблематического, уже получило свое объяснение. Теория типов, равно как одновременно с ней развившаяся теория общественных задач и т.п. легко справлялась с самыми трудными вопросами, переводя их в отвлеченные области. Обыкновенные слова, переходя в отвлеченности, теряют свое настоящее значение. Под мундиром всякий человек только солдат, в понятии всякое жизненное событие — только категория. Вот почему Гамлета — человека объяснить нелегко, почти невозможно, а Гамлет, как тип, так прост и понятен.