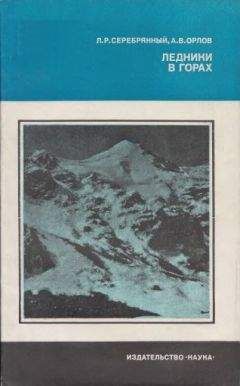На будущее у них много творческих планов. На первом месте — выпустить продолжение "Задушевного слова…" Еще многое предстоит собрать по градам и весям милого, народного — многочисленных свидетельств неувядающей любви русских к батюшке Серафиму. Дай Бог братчикам православного братства во имя преподобного Серафима Саровского духовных сил и любви!
Геннадий Зюганов
14 октября 2002 0
42(465)
Date: 15-10-2002
Author: Геннадий Зюганов
НАРОДНЫЙ ПИСАТЕЛЬ
Василий Иванович Белов для меня с давних времен — это сгусток народного духа. Это — один из коренников не только русской литературы ХХ века, но и самой русской жизни. Я читал его "Лад" как некий свод нравственных устоев нашего народа, и прежде всего крестьянства. Его "Привычное дело", "Плотницкие рассказы", я уверен, уже вошли в классику ХХ века. Если задуматься, это абсолютно уникальное явление — наша деревенская проза. Поставьте рядом книги Василия Белова, Василия Шукшина, Федора Абрамова, Валентина Распутина, Евгения Носова — такая боль русской души, такая правда обо всех русских трагедиях, такая драма народная, и вместе с тем — уверенность в будущем, крепость и стойкость в борьбе. Разве нам и сегодня не помогает выжить "Привычное дело"? Задумаешься о всех нынешних бедах — и чувствуешь: нельзя им поддаваться. Выстоять — привычное наше дело. Вот и Василия Ивановича, знаю, за его семьдесят лет и так обламывали, и этак, и пряником приучали, и кнутом обхаживали, а он как был в шестидесятые годы, так и есть — со своим характером, терпеливый, крепкий, никогда от своих устоев не отступит. Тоже — привычное дело.
Я сам из деревни, пусть не северной, а орловской, но все крестьянские тяготы знаю не понаслышке, хорошо знаю и сегодняшнее состояние крестьянина. Поэтому, как свою, читал и его хронику народной жизни тридцатых годов, его роман "Кануны". Его герои сегодня — это уже народные типы: и праведник Иван Африканович, тоскующий по справедливости и воле, и лишний человек Костя Зорин, ушедший из деревни, но так и не обретший себя в городе. Я верю его героям и всегда переживаю за них. Верю, что справимся мы вместе и с нашими общими бедами. Привычное наше дело.
Поздравляю Василия Ивановича с юбилеем, желаю ему воплощения всех главных замыслов. Его талант давно уже стал нашим национальным достоянием.
Он — народный писатель, каких немного было на Руси.
ГОРЬКАЯ ЛЮБОВЬ ВАСИЛИЯ БЕЛОВА
Владимир Бондаренко
14 октября 2002 0
42(465)
Date: 15-10-2002
Author: Владимир Бондаренко
ГОРЬКАЯ ЛЮБОВЬ ВАСИЛИЯ БЕЛОВА
Все читатели “Завтра”, ее авторы и коллектив шлют сердечное поздравление и самые добрые пожелания нашему другу Василию Ивановичу БЕЛОВУ по случаю его 70-летнего юбилея!
Перечитал накануне семидесятилетия Василия Ивановича Белова все его лучшие книги: "Привычное дело", "Плотницкие рассказы", "Все впереди"... И вновь, спустя годы, прочел ту трагическую правду о человеке, прежде всего о русском крестьянине, которую не слышали, не хотели слышать долгие годы. Много ли с нашей новой перестроечной информацией мы способны добавить к привычному уже для всех "Привычному делу"? Не говорю о художественности — любое художественное произведение неповторимо. Говорю о социальной правде, говорю о глубинном понимании нашей истории XX века. Как, оказывается, полезно перечитать с нынешним знанием, с нынешним пониманием отечественной истории последних десятилетий воистину лучшие книги шестидесятых-семидесятых годов писателей, полупрезрительно прозванных "деревенщиками", и увидеть, к стыду своему, что все — нам было сказано. И о вине нашей всеобщей. И о беде народной, и о долгом пути к выздоровлению. Василий Белов прошел свой долгий христианский путь к истине. Как мы увертливо притворялись, чего только ни сочиняли о героях Василия Белова, не стремясь понять его главной правды — о расчеловечивании человека. О боязни человека — быть человеком. Какие только споры ни вели мы о "Привычном деле", одни — идеализируя Ивана Африкановича, другие — обвиняя его в пассивности. Мы не хотели признавать, что жил он, как и вся деревня русская в те годы, — за чертой милосердия. И главнейший принцип Ивана Африкановича, принцип нравственный, хотя не всегда ими и понимаемый, — выжить как народ. Сберечь себя в человечности. Какая тут пассивность — наоборот, активнейшее сопротивление.
А кто выпрямлялся, кто не хотел подчиняться внешнему диктату уполномоченных, этих чиновных оккупантов собственной страны, тот чаще всего и погибал, пополняя ряды многочисленного люмпенства. Даже самые ярые противники Ивана Африкановича все равно Митьку, мурманского родственника, еще ниже поставят, еще больше осудят. Была возможность у Ивана Африкановича Митьке уподобиться, городским лимитчиком заделаться. Совсем пустым человеком стать. И как? Через бунт против каторжной, обесчеловечивающей системы. К слову о любителях поговорить о "безразмерном русском рабстве". Критики "Привычного дела" привычно проходили мимо попытки Ивана Африкановича уехать в город. Любители противопоставления города деревне отмахивались от поездки в Заполярье героя повести, как от чего-то несерьезного, мол, съездил и убедился, что город хуже. А не город хуже, деревенскому в городе — без корней, без того донного существования, которое и спасало в самые лютые годины, — сопротивляться невозможнее. В городских бараках Ивану Африкановичу труднее уцелеть как личности. Так же, как старой петербургской интеллигенции, выбитой из Ленинграда одним рывком в начале тридцатых годов и рассеянной по городам и весям в те же городские или поселковые бараки, трудно было сохранять старый уклад жизни. Процесс-то один шел — обезличивание народа. Думаю, и все беды наши перестроечные стали возможны из-за того, что оскудела русская деревня, оскудел тот национальный фонд наших героев, которым веками подпитывалась русская держава. Последней такой подпиткой , очевидно, была Великая Отечественная война. Но и после нее никак не отпускало русскую деревню. Никаких послаблений. Никаких поблажек и наград за вековое терпение во имя общего дела. То хрущевские карательные меры, то брежневские неперспективные деревни, и так до конца. Думали бездонной окажется русская деревня, ан нет…
Вспомним и по-человечески поймем, как нарастал, как каменел лютый гнев против каторжного, крепостного порядка у Ивана Африкановича. Какую оборону держал он за свое сено, накошенное по ночам, за свою корову, а глубинно — за народный уклад жизни, который как-то надо, пересилив себя, стишив себя, перенести через всех этих уполномоченных. Отбирают сено — один раз, отбирают — уже со своей повети, да еще чуть не осудив племянника Митьку на год, — второй раз. За работу ничего не платят, да еще постоянно грозятся штрафами, налогами. Если и надо говорить, то не об "идиотизме деревенской жизни", а об идиотизме той системы, которая упорно, в течение долгих десятилетий, занималась раскрестьяниванием крестьянина. И вот наш Стенька Разин, наш Иван Африканович, "...сгреб длинную, согнутую из железного прута кочергу: Ну!" Важнейшая для постижения характера Ивана Африкановича сцена, не замеченная всеми. У него, как на фронте, онемели глаза, "какая-то радостная удаль" привела к спокойному веселому "безрассудству". Он требовал справку для паспорта. И не Митька, не пьяные разговоры привели к этому взрыву, — то был внешний повод, не более. Ему надоело влачить бесправное крепостное существование во имя сохранения той глубинной крестьянской тверди, которой все же до конца шестидесятых годов держалась деревня. Он взбунтовался, и "прежним, смирным, как облегченный бык-трехлеток, тяжело и понуро направился к двери" , какая уж тут идеализация героя. Не с Рогулей сравнивается Иван Африканович самим писателем, а с "облегченным быком". Победил правление, получил справку на паспорт и пошел бунтовать дальше. Даже на Катерину замахнулся, "задумчивый стал". Такая ненависть сидит изнутри у каждого мужика к несвободным формам правления, что о "рабском существовании" крестьянина говорить может лишь человек, не знающий ни сути крестьянской жизни, ни природной тяги к земле. Во имя земли и смирялись, во имя земли и терпели. А взрывалось все, и уходил мужик, уже лишенный всяческих понятий о нравственности, о долге, о работе, в барачное безразличие. Бунтуя — проигрывал самое важное. Не назовет никто победителем ни Митьку из "Привычного дела", ни Егоршу из абрамовского "Дома", ни Петруху из "Прощания с Матерой". А ведь они-то — не рабы, очень даже горделивые, все как один — яркие личности. Жаль только, что разрушенные и несущие разрушение дальше.