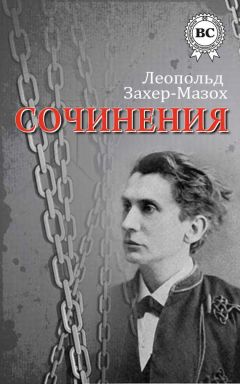Тогда я сказала ему все. Он читал «Венеру в мехах», и мне не пришлось долго объяснять ему. Я прибавила, что совершенно больна, так как родила только десять дней тому назад, рассказала ему мое беспокойство и мучение во время поездки и умоляла его не настаивать и тем не увеличивать горечи и боли моего существования.
Он с большим вниманием и сочувствием выслушал меня. Когда я кончила, он взял мою руку, поцеловал се и сказал:
– Благодарю вас за доверие и прошу верить, что во мне вы найдете искреннего друга.
И только.
Мы обедали вместе. Он говорил мне немного о себе и о своем доме, которым, по-видимому, гордился. Я чувствовала себя очень плохо. Скопившееся молоко болезненно напрягало мне груди, и я с трудом могла двигать руками. Я чувствовала, что силы покидают меня. Он заметил это, и просил меня выпить стакан вина. Исполнив это, я почувствовала себя лучше. Но до отхода поезда, на котором я должна была вернуться, оставалось еще много долгих часов. Тейтельбаум все-таки выказал минуту слабости; Он был молод, силен, с горячею кровью, вероятно, и пробыл столько часов наедине с молодой женщиной, на обладание которой он рассчитывал. Но как мужественно и честно он поборол себя, и как почтительно-нежно он относился ко мне!
Мы расстались, горячо пожав друг другу руки.
* * *
В вагоне я задала себе вопрос, каким образом я объясню Леопольду, что дело не удалось.
Я застала его на станции в таком возбужденном состоянии и с таким искаженным лицом, что прежде всего подумала, не случилось ли несчастья в доме. Но он сказал, что в ожидании меня пережил смертельную муку, так как был убежден, что я уже предала его «греку». Тогда я объяснила ему, что ничего не случилось, потому что Тейтельбаум, узнав в чем дело, объявил мне, что у него никогда не хватит смелости сыграть роль «грека» по отношению к такому замечательному человеку, как Захер-Мазох, к которому он питает величайшее уважение; что никогда он не мог бы чувствовать себя выше его и быть его «хозяином» и что он скорее откажется от счастья обладать мною, чем предпринять нечто невозможное, что только сделало бы его смешным в собственных глазах.
Таким образом, мой муж проглотил эту позолоченную пилюлю и в конце концов почувствовал себя необыкновенно гордым от уважения, которое он внушал.
Дома он не переставал расспрашивать меня о каждой подробности, и я должна была передать буквально весь наш разговор с Тейтельбаумом. Так как мне приходилось очень внимательно следить за каждым своим словом, чтобы не выдать себя, я вскоре почувствовала такую физическую и душевную усталость, что, казалось, могла умереть от истощения; в это ром я приход Штаудекгейма прекратил мои мучения. Леопольд пошел к нему навстречу и обратился к ним веселым тоном, точно желая сообщить ему приятную новость:
– Моя жена только что вернулась из Мюрццушлага.
– Твоя жена… Мюрццушлага – произнес Штауденгейм, глядя на него удивленно и ничего не понимая. – Значит, она уже встала?
– Она встала вчера. Сегодня она уезжала на целый день.
– Зачем же это?
– А! По очень важному делу; ей необходимо было ехать.
– Я полагаю, иначе ты не рисковал бы так ГС жизнью.
– Как – рисковал?
– Послушай. Сегодня 24 градуса мороза. Все школы закрыты, дети и женщины не выходят на улицу. Надо действительно иметь настоятельную нужду, чтобы выйти; мне кажется, что это вовсе не подходящее время для путешествий женщины слабой и только что вставшей от родов.
– Ах, ты все сравниваешь мою жену с другими женщинами. То, что было бы вредно другой, на нее совершенно не действует.
– Хочешь играть в шахматы?
В этом внезапном повороте разговора и в тоне его опроса было что-то, глубоко тронувшее меня. Одно мгновенье мне захотелось бросить все, подойти к нему, клонить свою голову на его сильную, могучую грудь и просить его защитить меня своими объятиями и увести отсюда…
Разбитая горем и болью, упав на пол перед своей кроватью, я уткнула голову в подушки, как делала это в детстве, и рыдала, рыдала…
* * *
На другой день с новорожденным сделалась дизентерия. Сама я была тоже настолько больна, что доктор запретил мне кормить ребенка, потому что это могло быть опасным для нас обоих. Несмотря на все наши заботы положение ребенка сделалось хуже. В рождественский вечер, в полночь, доктор Шмидт, которого я просила зайти еще раз, объявил, что, несмотря на все испробованные средства, он был бессилен помочь и что я должна быть готовой к потере ребенка.
В отчаянии я упала на подушки. Прошла долгая мучительная минута трагического молчания. Затем добрый доктор, сочувствовавший мне – в голосе его мне послышались слезы – объявил, что я не должна все– таки окончательно терять надежду и что мы попробуем радикально изменить питание ребенка. Он велел мне варить в продолжение нескольких часов мясо без жира и волокон, разрезанное на мелкие кусочки, вместе с рисом; таким образом я получу отвар молочного цвета, который и дам ребенку в рожке. Я тотчас же принялась за дело и через несколько часов маленький больной получил первую порцию отвара, которую он охотно проглотил. Потом он уснул, я также легла.
Когда я проснулась, было уже утро, Моя первая мысль была, что ребенок умер; я склонилась над его кроваткой и увидела, что он спал спокойным и крепким сном.
Спасен! То же сказал и доктор Шмидт, когда пришел к нему; с этого дня ребенок был совершенно здоров. Этот мясной бульон совершил настоящее чудо.
* * *
В Брюке мы часто бывали в гостях у одной молодой четы, г-на и г-жи X***. Жена в особенности интересовала меня, так как долго оставалась для меня загадкой. Ей было только двадцать два года, у нее (мила хорошая фигура и приятное, хотя и не красивое, лицо. У нее были странные глаза. Маленькие, они и постели из глубоких орбит и привлекали к себе взор, точно два пламени в темной глубине, над которой хочется склониться, чтобы проникнуть в тайну, которую они как будто охраняют. Эти загадочные глаза представляли удивительный контраст с очень спокойным вообще лицом.
У нее уже было двое детей, и муж, казалось, очень побил ее. Но ни муж, ни дети, ни семейная жизнь не тронули ее души. Она жила, точно чужая, среди своих домашних, она относилась к ним с лаской и добротой, но совершенно как посторонняя. Под этой холодной и всегда спокойной внешностью я чувствовала кипучую жизнь – тайну, которую охраняли и выдавали ее глаза.
Родственница ее мужа занималась у нее хозяйством и смотрела за детьми.
Что же касается ее, она все свое время проводила за пением и музыкой.
Счастливый инстинкт помогал ей разбираться в книгах, и она читала только хорошие вещи. Она совершенно не понимала людей и, кроме нас, почти никого не посещала. Она говорила очень мало и совершенно не касалась тех вещей, о которых обыкновенно говорят молодые женщины: о мужьях, детях, хозяйстве, туалетах, – еще менее – о развлечениях.
Со мной она одинаково мало говорила, как и с другими, а если это случалось, то она говорила тогда обо мне, и притом только наедине со мной. В присутствии других лиц, даже мужа, она не произносила ни слова; когда ей представлялся удобный случай, она брала мою руку, нежно целовала ее и крепко сжимала в своих, глядя на меня своими загадочными глазами. Все, что касалось меня, интересовало ее; я заметила, что моих детей она целовала с большей нежностью, чем своих. Однажды я шутя упрекнула ее в этом, и она своим спокойным тоном ответила мне:
– Ах, мои дети…
– Но ведь они ваши дети.
– Это случайность. Они точно так же могли быть детьми и другой женщины.
– Я могу то же самое сказать и о моих.
– Нет. Этих только вы могли иметь, никто другой.
Весной она проводила целые часы на опушке леса и собирала для меня первые фиалки, а в лунные ночи, меланхолическая красота которых влияет на нас так сильно в горах, она просила меня перед сном в известный час смотреть на поле, залитое светом, причем она делала то же самое и думала обо мне. Я наконец пришла к заключению, что она страстно полюбила меня и что эта любовь приносила ей больше страдания, чем счастья. Я видела, как она мучилась от ревности, когда заставала возле меня кого-нибудь, безразлично, мужчину или женщину. А между тем между нами не было очень близких отношений, не было даже того, что принято называть дружбой. После нескольких лет знакомства мы нисколько не сблизились, никогда не обменивались признаниями. Эта любовь трогала меня, правда, но я не понимала ее.
В один прекрасный день я разгадала ее тайну.
Студенты горной школы в Любеке давали свой ежегодный бал и прислали нам приглашение. Леопольд хотел идти, а так как г-н и г-жа X*** должны были отправиться тоже туда, то решено было пойти вместе.
Мы сняли две комнаты в отеле, где должен был состояться бал: мужчины должны были одеваться в одной, женщины в другой комнате. Я очень быстро была готова и уступила зеркало г-же X ***.