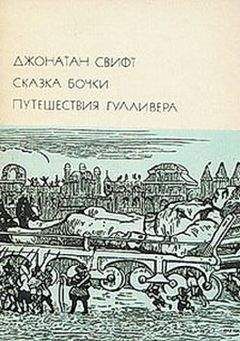У китайцев есть книги на языке двухтысячелетней давности, и даже частые нашествия татар не смогли его изменить. Немецкий, испанский и итальянский языки за последние несколько веков подверглись незначительным изменениям или не изменились вовсе. Мне ничего не известно о других европейских языках, да и нет особых причин их рассматривать.
Завершив сей обзор, я возвращаюсь к рассуждениям о нашем собственном языке и желал бы смиренно предложить оные вниманию Вашей светлости. По моему мнению, период, в который английский язык достиг своего наибольшего совершенства, начинается с первых лет правления Елизаветы[8] и кончается великим мятежом сорок второго года[9]. Правда, слог и мысли были тогда очень дурного вкуса, в особенности при короле Якове I, но, кажется, обрели пристойность в первые годы правления его преемника, который, помимо многих других качеств превосходного монарха, был великим покровителем просвещения. Я имею основания сомневаться в том, что со времени междоусобной войны порча нашего языка не уравновесила по меньшей мере те улучшения, которые мы в него внесли. Лишь немногие из лучших авторов нашего века полностью избежали этой порчи. В период узурпации жаргон фанатиков настолько проник во все сочинения, что от него невозможно было избавиться в течение многих лет. Затем последовала пришедшая с Реставрацией распущенность, которая, пагубно отразившись на нашей религии и нравственности, сказалась и на нашем языке. Едва ли улучшению языка мог содействовать двор Карла II, состоявший из людей, которые последовали за ним в изгнание, либо из тех, кто слишком наслушался жаргона времен фанатиков, либо молодежи, воспитанной во Франции. Так что двор, который обычно был образцом пристойной и правильной речи[10], стал, и продолжает с тех пор оставаться, худшей в Англии школой языка. Таковым он пребудет и впредь, если воспитанию дворянской молодежи не будет отдано больше заботы, дабы она могла выходить в свет, владея некоторыми основами словесных наук, и стать образцом просвещенности. В какой мере сей недостаток отразился на нашем языке, можно судить по пьесам и другим развлекательным сочинениям, написанным за последние пятьдесят лет. Они в избытке наполнены жеманными речами, недавно выдуманными словами, заимствованными либо из придворного языка, либо у тех, кто, слывя остроумцами и весельчаками, считает себя вправе во всем предписывать законы. Многие из сих утонченностей давно уже устарели и едва ли понятны теперь, что неудивительно, поскольку они были созданы единственно невежеством и прихотью.
Насколько мне известно, еще не бывало, чтобы в этом городе не нашелся один, а то и больше высокопоставленных олухов, пользующихся достаточным весом, чтобы пустить в ход какое-нибудь новое словечко и распространять его при каждом разговоре, хотя оно не содержит в себе ни остроты, ни смысла. Если словечко сие приходилось по вкусу, его тотчас вставляли в пьесы да журнальную писанину, и оно входило в наш язык; а умные и ученые люди, вместо того чтобы сразу же устранять такие нововведения, слишком часто поддавались соблазну подражать им и соглашаться с ними.
Есть другой разряд людей, также немало способствовавших порче английского языка: я имею в виду поэтов времен Реставрации. Эти джентльмены не могли не сознавать, сколь наш язык уже обременен односложными словами, тем не менее, чтобы сберечь себе время и труд, они ввели варварский обычай сокращать слова, чтобы приспособить их к размеру своих стихов. И занимались этим так часто и безрассудно, что создали резкие, нестройные созвучия, какие способно вынести лишь северное ухо. Они соединяли самые жесткие согласные без единой гласной между ними только ради того, чтобы сократить слово на один слог. Со временем их вкус настолько извратился, что они оказывали предпочтение тому, что прежде считалось неоправданной поэтической вольностью, утверждая, что полное слово звучит слабо и вяло. Под этим предлогом такой же обычай был усвоен и в прозе, так что большинство книг, которые мы видим ныне, полны обрубками слов и сокращениями. Примеры таких злоупотреблений бесчисленны. И вот, опуская гласную, чтобы избавиться от лишнего слога, мы образуем созвучия столь дребезжащие, столь трудно произносимые, что я часто недоумевал, можно ли их вообще выговорить.
Уродованию нашего языка немало способствовала и другая причина (вероятно, связанная с указанной выше); она заключается в странном мнении, сложившемся за последние годы, будто мы должны писать в точности так, как произносим. Не говоря уже об очевидном неудобстве – полном разрушении этимологии нашего языка, изменениям тут не предвиделось бы конца. Не только в отдельных городах и графствах Англии произносят по-разному, но даже и в Лондоне: при дворе комкают слова на один лад, в Сити – на другой, а в предместьях – на третий. И через несколько лет, вполне возможно, все эти выговоры опять переменятся, подчинившись причудам и моде. Перенесенное в письменность, все это окончательно запутает наше правописание. Тем не менее многим эта выдумка настолько нравится, что иногда становится нелегким делом читать современные книги и памфлеты, в которых слова так обрублены и столь отличны от своего исконного написания, что всякий, привыкший к обыкновенному английскому языку, едва ли узнает их по виду.
В университетах некоторые молодые люди, охваченные паническим страхом прослыть педантами, впадают в еще худшую крайность, полагая, что просвещенность состоит в том, чтобы читать каждодневный вздор, который им присылают из Лондона; они называют это знанием света и изучением людей и нравов. С такими познаниями прибывают они в город, считают совершенством свои ошибки, усваивают набор новейших выражений и когда берут в руки перо, то выдают за украшение стиля все необычайные словечки, подобранные в кофейнях и игорных домах, причем в правописании они изощряются до крайних пределов. Вот откуда взялись те чудовищные изделия, которые под именем «Прогулок», «Наблюдений», «Развлечений» и других надуманных заглавий обрушились на нас в последние годы. Вот откуда взялось то странное племя умников, которые уверяют нас, будто пишут в соответствии со склонностями нынешнего века. Я был бы рад, если бы мог сказать, что эти причуды и кривлянья не затронули более серьезных предметов. Словом, я мог бы показать Вашей светлости несколько сочинений, где красоты такого рода столь обильны, что даже Вы, при ваших способностях к языкам, не смогли бы их прочесть или понять.
Но я убежден, что многие из этих мнимых совершенств выросли из принципа, который, если его должным образом осознать и продумать, полностью бы их развенчал. Ибо опасаюсь, милорд, при всех наших хороших качествах просвещенность нам по природе не слишком свойственна. Наше беспрестанное стремление укорачивать слова, отбрасывая гласные, есть не что иное, как склонность вернуться к варварству тех северных народов, от которых мы произошли и языки которых страдают тем же недостатком. Нельзя не обратить внимания на то, что испанцы, французы и итальянцы, хотя и ведут свое происхождение от одних с нами северных предков, с величайшим трудом приучаются произносить наши слова, меж тем как шведы и датчане, а также немцы и голландцы достигают этого с легкостью, потому что наши слова и их сходны по грубости и обилию согласных. Мы боремся с суровым климатом, чтобы вырастить более благородные сорта плодов, и, построив стены, которые задерживают и собирают слабые лучи солнца и защищают от северных ветров, иногда с помощью хорошей почвы получаем такие же плоды, какие выращивают в более теплых странах, где нет нужды в стольких затратах и усилиях. То же относится и к изящным искусствам. Возможно, что недостаток тепла, который делает нас по природе суровыми, способствует и грубости нашего языка, несколько напоминающего терпкие плоды холодных стран. Ибо я не думаю, что мы менее даровиты, чем наши соседи. Ваша светлость, я надеюсь, согласится с тем, что мы должны всеми силами бороться с нашими природными недостатками и быть осмотрительными в выборе тех, кому поручаем их исправление, меж тем как доныне это выполняли люди, наименее к тому пригодные. Если бы выбор был предоставлен мне, я скорее вверил бы исправление нашего языка (там, где дело касается звуков) усмотрению женщин[11], нежели безграмотным придворным хлыщам, полоумным поэтам и университетским юнцам. Ибо ясно, что женщины, по свойственной им манере коверкать слова, естественно, отбрасывают согласные, как мы – гласные. То, что я сейчас поведаю Вашей светлости, может показаться сущими пустяками. Находясь однажды в смешанном обществе мужчин и женщин, попросил я двух или трех лиц каждого пола взять перо и написать подряд несколько букв, какие придут им в голову. Прочитав сей набор звуков, нашли мы, что написанное мужчинами, из-за частых сочетаний резких согласных, звучит подобно немецкому языку, а написанное женщинами – подобно итальянскому, изобилуя гласными и плавными звуками. И хотя я ни в коем случае не намереваюсь затруднять наших дам, испрашивая у них совета в деле преобразования английского языка, мне думается, что нашей речи нанесен большой вред с тех пор, как они исключены из всех мест, где собирается общество, а появляются лишь на балах и в театрах, да в других местах, где происходит многое еще худшее.