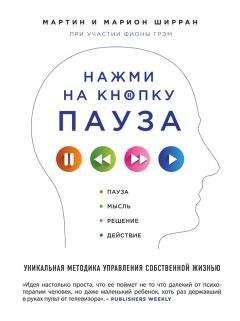Вот его письмо: «Вижу, что непременно мне нужно иметь 80.000 доходу. И буду их иметь. Не даром же пустился я в журнальную спекуляцию. А ведь… очищать русскую литературу, есть чистить нужники и зависеть от полиции».
Считается, что Пушкин, был «афей». Однако духовный путь поэта ясно указывает на всё большее его приближение к истинным, а не мнимым ценностям христианства. Но путь этот был особый! Не сверху, с неба, а снизу, сквозь земную бестолочь и муть, двигался поэт по нему.
Медленно, но уверенно шёл он по редчайшему пути: не поверхностного, а глубинного очищения красотой, взращения добра не в тепличных условиях — среди грехов и тягот мира. Наконец, по пути «одухотворённого окультуривания всех сфер жизни», о чём позже ясно и чётко написал Павел Флоренский.
Пушкин двигался к особого рода состоянию души и тела, иногда встречающемся в обыденной жизни, и не слишком схожим с церковным.
Мирская святость — вот, к чему вело Пушкина его высокое искусство!
— И всё-таки, жизнь Ваша, Александр Сергеевич, далеко не икона.
— Но вокруг значимых икон всегда выписывают «житие». В таком «житии» — я как рыба в воде.
И верно. Пушкин не кумир. Не какой-то покрытый трескающейся позолотой персонаж далёкой средиземноморской истории. Он не нуждается в официозе и канонизации. И тот путь к особого рода народному (пусть иногда «лубочному») раю на земле, тот путь мирской святости, который ему не дали пройти в жизни, — Пушкин раз за разом проходит в нашем подсознании…
А теперь о другой любви. К примеру, о любви Александра Сергеевича к декабристам. В молодости он им и верно: симпатизировал. Правда, с возрастом от принципов декабризма отходил всё дальше. Но не Пестель, а Пушкин — первый истинный демократ России! Независимая личность и освобождаемый от партийного и местнического рабства народ, а не тираны и их приспешники творят историю — от лирических од до «Истории Пугачёва» — в его произведениях, сгустивших нашу тогдашнюю и сегодняшнюю жизнь до крепости атомного ядра.
Необходимость присутствия Пушкина, при начинающемся безреволюционном противоборстве с ново-назревающим российским рабством, снова подталкивает обратиться к нему:
— В чём всё-таки загадка, вашего постоянного присутствия в нашей жизни? Некоторые говорят: глаза б мои этого Пушкина не видели! Уши бы его не слыхали!.. А всё равно перелистывают и перелистывают, пинают и тискают.
— А вы попробуйте убрать из московского воздуха кислород. Что получится?
— Ну а длительное воздействие на читателей, — как вам его-то удалось добиться?
— Сам не знаю. Да вы почитайте мои вещицы детям: невинность всегда даёт правдивые ответы!
Почитал. «Золотого петушка» и «Дубровского». Ответы семи-восьмилетних:
— Пушкин не врёт!
— Так красиво, что я заплакал.
Тут начинает проясняться: именно Пушкин первым обрёл в России творческий стиль поведения. Творческая нефальшивая «манера поведения», а не муза — диктовала ему строку! Его проза? Продолжение его поступков. Его стихи? Венец неистовых, но искренних желаний. Словом, творил, как жил. А ведь и тогда и сейчас, жизнь многих и многих наших писателей — это, по существу, пародия на их собственные произведения!
И последнее. Русский язык — как и некоторые другие языки — сверхстихия. Мощная биоэнергетическая среда. Русский язык: океан изначально предпосланных нашей истории — событий и возможностей.
Ни Пётр, ни Екатерина, ни Павел, ни Ломоносов, ни Державин, ни Карамзин — не смогли раскрыть изначально заложенное в русском языке, — а значит и в русском мышлении — богатство дум, не смогли обнаружить и до конца понять невероятную обновляемость и гениальную доходчивость русского просторечия!
Это сделал Пушкин. Тут его значение.
Здесь должен был бы последовать феерический конец: Пушкин отдал жизнь за торжество русского языка и русской культуры. Но конец будет другим, неожиданным.
Пушкин действительно отдал жизнь. Но не за царя. И даже не за литературу. Пушкин отдал жизнь за свою семью и доброе имя. Словно бы искупая грехи молодости, он пожертвовал собой, ради благополучия других. Он чувствовал: без такой человеческой жертвы нравственная и финансовая ситуация вокруг него и его родных разрешена быть не может. Как и предчувствовал Пушкин, после его смерти всё чудесным образом изменилось, как будто только этой смерти и ждали…
Были уплачены долги. Сыновей определили в пажи. Дочерям — назначили пенсию. Вдова, нашла себе уравновешенного мужа-генерала. Поэта перестали поносить. Вместо слов: «Пушкин исписался», Чушкин и Хлопушкин — появились слова: «Солнце нашей поэзии…»
Всё это наталкивает на неожиданную мысль: жизнь Пушкина была первой и лучшей русской новеллой, «замысленной» и написанной им самим! Новеллой о предначертаниях судьбы и о противостоянии её жестоким рамкам (Авраам боролся с ангелом, Пушкин с «безвоздушьем» чиновного Петербурга). Новеллой о лакействе и вольности, о новом и необычном для России сочетании чувственной любви и духовного опыта (сладостный, духотворящий эрос витает над пушкинскими листами)!
Важно и то, что эта новелла жизни была создана одновременно и в пушкинском, и в общемировом ключе: со стремительным взлётом в начале; с «соколиным поворотом» — обращением к прозе — в середине; с неожиданно-ожидаемым, жёстким «пуантом» — дуэлью у Черной речки и неподтверждёнными, но вполне вероятными предсмертными словами: «Ах! пуля дура» — в конце.
Вот уже 175 лет, как эта великая русская новелла — с будоражащими воображение стиховыми и «философическими» вставками — читается нами взахлёб.
Смех слышим — слезы на глазах
Осенью 1999 года, будучи заместителем главного редактора еженедельника «Книжное обозрение», я позвонил Виктору Петровичу Астафьеву в Овсянку. И рассказал ему о том, что редколлегия газеты единодушно выбрало его «Веселого солдата» книгой месяца. «Я думаю, — выберем ее и «книгой года», — добавил я, и спросил у Виктора Петровича, не возражает ли он против публикации статьи об этой книге в рубрике «Книга месяца».
— Если считаете нужным, — публикуйте, — ответил Виктор Петрович.
Прощаясь, я пообещал прислать 2 экземпляра газеты. Через две или три недели я позвонил в Овсянку снова. Виктор Петрович сказал, что газеты ему доставили и статья понравилась.
— В последнее время обо мне хорошо писали только женщины-критики. А здесь тоже неплохо вышло.
Я почувствовал, как Виктор Петрович слабо улыбнулся…
Совсем недавно, рыская по интернету в поисках перелицованной Осиповым «Энеиды», я наткнулся на эту статью. Она висела на сайте Озона. Рядом с ней, почему-то других статей не было. Хотя, как я знал, писали о Викторе Петровиче многие.
Перечитав, я понял: надо оставить все, как было. Новое я скажу о Викторе Петровиче позже, а старое переписывать незачем…
История солдатаВиктор Астафьев всегда писал правду. Попробуем написать правду и мы. Авось мастер не обидится. Итак. В приречном селе Овсянка, что в Красноярском крае, в 1987–1997 годах была написана одна из лучших повестей XX века. Повесть называется "Веселый солдат". Сперва она появилась в "Новом мире", а теперь вот вышла отдельной книгой. В книге значительность повести видна ярче, чем в журнале. Почему? Ну, во-первых, в журнале "Веселый солдат" был окружен другими "хорошими и разными", но "не астафьевскими" вещами. Вещи эти (стихи, проза, статьи) создавали особую журнальную оркестровку, слегка деформируя звучание и смысл повести. Повесть "играла" чужими отсветами, иногда выпячивала, иногда скрадывала свои достоинства именно в зависимости от других вещей. В книге же "Веселый солдат" состыкован только с астафьевскими рассказами. Но и среди равных себе вещей "Солдат" мигом выделился. Кстати, это вовсе не "баллада о солдате", как кто-то уже окрестил повесть. Нет здесь никакой романтики. Это — история солдата, солдатом же и рассказанная. А ведь солдат (наравне разве с зэком) — самая значимая фигура второй половины нашего литературного века. Правда, фигура всеудаляющегося от нас солдата Второй мировой вышла слегка подпорченной. Отчего так?
Солдат сводит счетыЖизнь без сочинительства не обходится. Чего мы ищем в сочиненных вещах? Верно: "клубнички", забав, смеха. Иногда — трагедий. Иногда — обид. И очень редко — истины.
Раньше повести и романы о Великой Отечественной сочинялись у нас вагонами. Некоторые из них были сильными, честными. Однако большая часть их была слабой и конъюнктурной. Виктор Астафьев уже давно отделился от пласта нашей военной прозы, а теперь вот написал и вовсе необычную книгу о войне. Он ее не сочинил, а вспомнил. Ну, а коли вспомнил, то уж, конечно, кое с кем свел счеты. И свел он их не только с советскими временами, с бездарно-бездушной пропагандой, но и с самим собой: наивным, простодушным, не знающим ни войны, ни жизни.