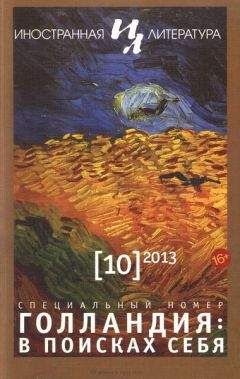А я умалчиваю о том, что у нас уже не осталось девственной природы, что наши пастбища не хранят никаких тайн и открывать нам больше нечего.
Тибр берет свое начало недалеко от Пеннабилли. Вблизи от его истоков, над почти безлюдной деревушкой, возвышаются руины замка. Но в мире Тонино Гуэрры нет ничего однозначного. На обломках разрушенных подземных ходов он разбил свой Каменный сад. Полы, единственное, что уцелело от старинных залов, он покрыл Коврами из окаменелых мыслей.
— Сюда уже многие годы никто не заглядывает, — рассказывает одна из последних трех жительниц. — Молодежь уехала в Римини, работает на курорте. Или спустилась в соседнюю деревню. Молодые господа уже не в состоянии жить на горном склоне, в своих кроссовках из жевательной резинки.
Она вскидывает голову и подергивает плечиками, издеваясь над «элегантностью» больших городов. От смеха у нее начинает течь из носа, и она наскоро вытирает лицо рукавом хлопкового платья. В октябре в горах сыро, а после захода солнца прохладно.
«В память о Джотто, увидавшего с Монтефельтро первые волны синего Адриатического моря», — выведено Тонино на одной из плиток. Эта плитка лежит рядом с «ковром» окаменелых волн, почти невидимых в траве. Вдалеке, в той стороне, где раскинулся ковер, низкое солнце выстилает серебристо-белую дорожку. Море или мираж?
Абстрактная игра линий составляет ковер «в память об Эзре Паунде, преклонившем колени перед черными слонами Сигизмундо Малатесты». Приземлившаяся сказочная утка призвана «почтить Данте, побывавшего в этих краях после побега из Флоренции». Отец Маттео, основатель ордена капуцинов, кричавший на всех: «В ад, в ад, грешники!» — удостоен каменной плиты с изображением искореженных церковных дверей. Поле с миниатюрными Пирамидами из сновидений образует прелюдию к башне в заброшенной горной деревне внизу, трехгранный шпиль которой, словно пирамида, поднимается прямо над этим ковром.
— Ковры? А, эти объекты искусства или как они там называются. Ничего красивого в них нет, — говорит женщина в черном. — Впрочем, что я смыслю в искусстве?
Она срывает инжир с дерева и протягивает мне. Просто так.
— Но я верю, что они способны изменить нашу жизнь. Этим летом у нас было много гостей. А в следующем году ожидается еще больше. Все, кому надоело море в Римини. В своих шортах они добираются до наших деревень. Кто знает, может они вернут жизнь на гору? Может, долина Мареккьи снова воскреснет? Туристам всегда надо что-то покупать. Им надо есть. Спать.
Она срывает еще инжир и съедает. По подбородку стекает сок, она вытирает его рукавом.
— Кто знает? Может, и сыновья наши тоже вернутся. В своих американских штиблетах!
— Когда я читаю ваши сценарии, мне хочется умереть. Мои сценарии гораздо лучше! Да ладно, не принимайте близко к сердцу. Я же не Бог. Об этом иногда забывают.
Тонино сегодня не в духе, и слушатели его лекций чувствуют это на собственной шкуре. Даже тот факт, что Фонс и Лили Радемакерсы ни свет ни заря покинули свой римский рай, что напротив Пантеона, ради лекции мэтра длиною в несколько часов, оставляет его равнодушным. Ему не важно, что получил этот голландец[2] — «Оскара», несколько «Оскаров», как сам Тонино, или батон колбасы. Тонино дуется. Голландским сценаристам это не мешает. Им хватило недели, чтобы свыкнуться с его капризами, мало ли что слетает с его языка. Когда его заносит, вмешивается жена. Несмотря на копну ярко-рыжих волос, которые невозможно не заметить, Лоре всегда удается незримо пробраться туда, где Тонино читает лекции. Она тихонько пристраивается в углу и подает голос, только если Тонино начинает перегибать палку. Грузинка с горячим темпераментом — прекрасный образ для сценария.
— Не жалуйся, Тонино. Расскажи лучше о Параджанове!
— Молчи, женщина! И не подумаю! Они пришли слушать тебя или меня? О, русские женщины!
— Параджанов был гением.
— А ты проклятие. Ступай домой. Я не могу так работать. Накорми собаку.
Лора уходит. Тонино рассказывает о Параджанове. Буря миновала.
На холме Пенна еще задолго до этрусков разжигали огонь в честь богини солнца. Это место помечено Тонино таинственным, лабиринтообразным знаком. Вокруг него обитают двенадцать последних затворниц этого края. Сам Тонино обосновался на противоположном холме Билли. Его владения простираются — терраса за террасой — по всему склону. Единственные ворота выложены из остатков развалившихся церквей. На каждом выступе, подоконнике, под деревьями лежа! расписанные геометрическими фигурами камни. Голубые и зеленые, желтые, пастельнорозовые и золотые. Они рассыпаны по фруктовым садам, как цветы на детском рисунке. Пока ветер загоняет облака в долину под нами, Тонино разливает сначала «Святое вино», затем тяжелое вино Альбано и разламывает панфорте, протягивая всем сладкие кусочки.
Одна половина дома предназначена для Лоры, другая — для него. В апартаментах Тонино не найти угла, не отмеченного его печатью. Он сконструировал там самую фантастическую в мире мебель. Неужели он мастер на все руки? Его необузданные фантазии воплощены в лучших традициях итальянского дизайна, с использованием материалов высшего качества; застекленный шкаф, печь, столы, стулья. Изысканная жизнь в воображении ребенка. Правда, ребенка с коммерческой жилкой. На столе красуется каталог крупной выставки мебели Гуэрры, только что открытой в одной из галерей Нью-Йорка.
Пока маэстро ораторствует на улице, меня подзывает Лора. Она провожает меня наверх и показывает Дверь его мыслей. Дверь — она на самом верху — состоит из двух старых, непокрашенных стальных створок. Она никуда не ведет, упираясь в глухую стену. Время от времени Тонино распахивает эти створки, царапает на внутренней стороне какую-нибудь мысль и снова их закрывает. Никому другому не разрешено прикасаться к двери. Рядом его рабочий кабинет. Я ни о чем не прошу, но Лора считает само собой разумеющимся показать мне его святая святых. Если я обещаю молчать, то могу заглянуть внутрь.
Там стоят два стола, а на стенах развешаны фотографии Тонино. Тонино-юноша. Тонино-старец. В зрелом возрасте и младенчестве. С Тарковским. Параджановым. Братьями Тавиани. Лора сияет, заверяя меня, что все эти люди его обожают. Фотографий самой Лоры нет нигде.
Лора и Гуэрра встретились семнадцать лет назад.
— В Тбилиси. Но я русская, понимаете, не грузинка!
Поставив уже несколько собственных фильмов, она ассистировала в тот момент Тарковскому.
— Тонино и я полюбили друг друга, но не могли общаться. Это было ужасно. Ведь он хотел поведать мне все, и тогда он стал писать письма. По одному каждый вечер. Перед сном он сминал письма в комок и бросал их в большой чемодан. Однажды он привез мне этот чемодан, полный писем. Каждый день я брала по письму, разглаживала его и отдавала на перевод. Когда чемодан опустел, мы поженились.
Мы переходим в кухню с буфетом Тонино и изобретательной кладовкой Тонино, набитой его картинами. Кухня соединена с Лориной половиной дома. Маленькие комнаты в тепло-розовых тонах, увешенные полотнами, с множеством ковров и пухлых подушек. И большой пустой чемодан. Она живет в русском кукольном доме, с закрытыми ставнями, чтобы не видеть, как идет снег.
— Сама я больше не работаю. Я пыталась что-то сделать, но идеи Тонино всегда лучше. Знаете, сегодня, спустя семнадцать лет, я все еще чувствую себя его ученицей, а не женой.
Поздно вечером — все мы слегка захмелели — он подсаживается ко мне на самой высокой террасе под ореховыми деревьями. Он хочет знать, вынес ли я что-нибудь из его лекций. Боюсь, что он имеет в виду: научился ли я лучше писать сценарии. Нет, не научился. Более неподходящего человека на роль учителя не сыскать. Он рассказывает уйму занимательных историй, но совершенно не способен анализировать свое или чужое творчество. Тем не менее он задумал открыть в Пеннабилли школу для сценаристов. Кто-то должен его отговорить. Пока я сомневаюсь, следует ли сделать это мне, он и так все понимает. И пожимает плечами, как будто затея с киноакадемией Тонино Гуэрры уже потеряла для него всякий интерес.
— Повторю еще раз, можешь пропустить это мимо ушей, но, по крайней мере, моя совесть будет чиста: любое место обладает волшебством, которое ты сам в нем узришь. Конечно, легко утверждать такое, когда путешествуешь. Я бы хотел, чтобы каждый умел разглядеть волшебство в повседневной обстановке, сидя в кресле у себя в гостиной. А если люди этого не делают, так нужно их заставить. Когда в один прекрасный день они завернут в кинотеатр, хватай их там голыми руками. В твоем распоряжении полтора часа — распахни перед ними их собственный мир, который сами они увидеть не в состоянии.
Он с трудом поднимается и отряхивает брюки.