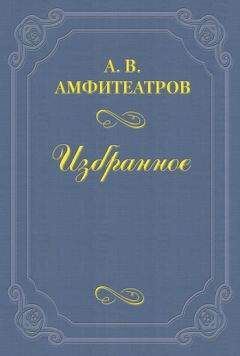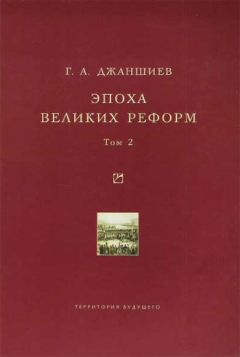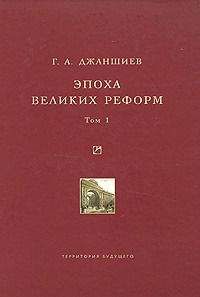Встретившись затем с Джаншиевым в Москве, я извинился пред ним, изъяснив ему свои обстоятельства, и он же переконфузился и стал вдвое больше извиняться, что «беспокоил меня своими дрязгами»:
– Ничего, ничего! Вы для второго издания напишите. Книга прекрасно идет. Будет второе издание.
Он горько жаловался на армянофобию, которая, по его мнению, быстро распространялась в русском обществе. Чуток он был к этому «растлению» поразительно. И даже чрезмерно подозрителен. Я не припомню сейчас, не имея под рукою его писем, за что именно, но вдруг в 97 году он мне прислал пресвирепое письмо – по поводу какой-то совершенно невинной шутки об армянах, хотя очень хорошо знал, что зла на армян я никогда не мыслил, не мыслю да и не могу мыслить по сотням связей, дружб и симпатий, от юности соединяющих меня с армянами Закавказья.
Последнее письмо от Г. А. – чрезвычайно ласковое – я получил столь же неожиданно, как и другие. Его письма, диктованные «гласом души», потребностью высказаться, всегда сваливались сюрпризом, – думаешь, человек давным-давно забыл о твоем существовании на белом свете, а он вдруг пишет. Оно пришло в мае 1899 года – по поводу «радикальной» программы, объявленной «Россиею», и представляло целый трактат о веротерпимости и против национальных предубеждений.
В каждом поколении есть люди таланта, люди ума, люди действия. В поколении шестидесятых годов Джаншиев был бесспорно и умен, и талантлив, и деятелен, но, главным образом, он был человеком света, светоносцем.
Ловец, все дни отдавший лесу,
Я направлял по нем стопы,
Мой глаз привык к его навесу
И ночью различал тропы.
Когда же вдруг из тучи мглистой
Сосну ужалил яркий змей,
Я сам затеплил сук смолистый
У золотых ее огней.
Горел мой факел величаво,
Тянулись тени предо мной…
Это стихотворение Фет будто о Джаншиеве написал. Только последние стихи:
И тем ужасней сумрак ночи,
Чем ярче светоч мой горит, —
надо для Джаншиева перевернуть в обратную антитезу:
И чем ужасней сумрак ночи,
Тем ярче светоч мой горит!
Ибо – вот уж о ком по правде-то сказать можно, что тьма не объяла его.
Со светом, возжженным у огня шестидесятых годов, Григорий Аветович бестрепетно прошел свою честную жизнь не столько бойцом, сколько трубадуром великой эпохи. Он охотно брался, когда надо, за меч и храбро им бился, но настоящее оружие его – была лютня, даже немножко сантиментальная лютня. И слово свое, и дело отдал он безраздельно великой богине человечности, зарю царствия которой видел в 19 февраля 1861 года. Богине человечности он служил равно и в России, и в местах всесветного армянского рассеяния. Армян-сородичей он любил, как русских, а русских – как армян. Дай Бог каждому русскому так любить Россию, как любил ее армянин Джаншиев, и принести ей хоть треть той пользы, что он принес.
Я считаю Григория Аветовича идеалом гражданина, каким может стать в жизни совершенного русского общества образованный инородец, получивший в России свое воспитание, скрепленный с Россией всеми правами и обязанностями, горячо к России привязанный, сознающий себя русским политически, и в то же время не забывший ни родного языка, ни родной веры, ни родного племени, чутко болеющий сердцем за его судьбы, полагающий душу, дабы улучшить его положение, сохранить и поднять его исторические бытовые особенности и права. Русские охранители полагают, что националист с окраин есть антипод националиста из центра, что инородец и русский гражданин – начала чуть ли не противоречащие, что лишь руссификация создает русских, и т. п. Увы! всюду, где мы применяли знаменитые руссификационные меры, Джаншиевы не вырастали. Джаншиевых не видать между поляками, претерпевшими школу И. В. Гурко, не наезжает их и из Финляндии. Боюсь, что перестанут они наезжать и из Закавказья!
Патриот государства и патриот племени, – что так удачно совмещал в себе Григорий Аветович, – отлично уживаются между собою, когда государство и племена, им объединяемые, находятся в свободном и доверчивом равенстве, чуждом прозы с одной стороны и рабского страха – с другой. А только такой совместный патриотизм и ручается государству, разноплеменному по составу населения, что прогресс его будет идти неуклонно стопою мирною и благоуспешною. Спасителен только патриотизм, вмещающий мирный труд в мирном и твердом равенстве гражданства и народностей. Всякий иной патриотизм – начало гибели, потому что диктуется хвастовством и угрозами силы, опирающейся на меч, обнаженный или готовый обнажиться, по востребованию. А – «взявший меч от меча и погибнет».
1900шедевр (фр.)
хорошо подвешенный язык (фр.)