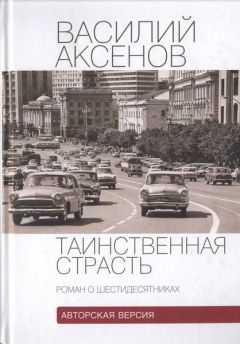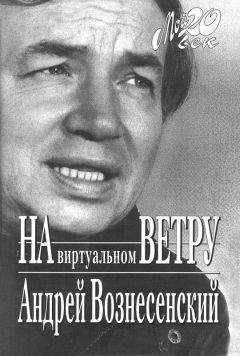Пребывая в облаках, наша героиня, по-моему, не очень-то верит в то, что происходящее на земле — реальность. Во всяком случае, сама она живет как бы в иной, своей реальности, независимо от того, как развернется земное действие. Не потому ли, появляясь по весне в городе и еще не зная, как пойдут события, Ильина заранее твердо уверена (вместе с автором), что, «когда листья начнут облетать», ее уж в городе не будет? Александра Ивановна— как фея, она не от мира сего, и если мир сей иной раз живет невпопад ее настроениям, то тем хуже для мира; во всяком случае, он не мешает ей грустить или смеяться; что не дозволено тете Паше, то дозволено фее, земная тетя Паша может засмеяться невпопад, фея — не может: для нее реальность — ее мечта, все остальное — невпопад! «Любоваться звездами, — мечтает Александра Ивановна. — Читать стихи. Или, например, стоять возле реки и молча ловить в ней лунное отражение…» Бред? Абсолютный. С точки зрения какого-нибудь земного Василия Праздникова, начальника строительства. И вместе с тем— последовательность! С точки зрения просвечивающей сквозь пьесу симфонии о фее.
Стараясь отыскать главный просчет Арбузова, многие критики склонялись к той мысли, что главный просчет драматурга — в смутности содержания, в нечетком видении жизненных проблем, что и влечет за собой размытость формы и весь этот лирический флер на сцене. Содержание и форма, разумеется, всегда связаны, но не так, как паровоз с вагонами, а скорее как видимая и невидимая стороны одного предмета: если изменить освещение, стороны поменяются местами. У меня такое впечатление, что «проблемы»-то были для Арбузова как раз формой сценического воплощения его незримой симфонии… не в том, заметьте, смысле, что вагоны у него тянут паровоз, а в том, как убеждает нас внутреннее освещение действия, что исходным, реальным, содержательным для Арбузова было именно это неясное, доброе и чуть печальное явление феи; пытаясь поселить фею среди людей, найти реальные формы этому явлению, Арбузов стал натыкаться на проблемы, как на мешающие ему предметы, а проблемы этого не любят, вот они и взбунтовались, проблемы, да и ответили неосмотрительному автору вполне заслуженными ударами критических статей: это тебе за отцов и детей, а это— за недооценку массовых средств культработы, а это — за наше телевидение… Два определения прилагались к пьесе Арбузова: псевдодрама и «недодрама». Я думаю, и то и другое верно. Псевдодрама — это деятельность Александры Ивановны на поприще культработника; недодрама — это та недописанная, непроясненная реальная драма ее жизни, которая смутно звучит в пьесе и не находит сценического решения.
Один раз, впрочем, эта скрытая драма как бы выходит на поверхность, и тогда Арбузов создает сцену, поразительную по своей силе, — это сцена объяснения вчетвером. Не могу не поддаться соблазну сравнить ее с аналогичным моментом в пьесе Розова «Перед ужином», благо драматурги словно нарочно толкают нас на сравнение перекличкой мотивов: у Розова между Гришей и Верочкой стояли Гришина мама, которая его любит, и Верочкин изменник муж, который, если вы помните, жаловался, что его без конца девки атакуют сжирающими глазами; у Арбузова между Греком и Александрой Ивановной стоит жена Грека, которая его любит, и неверный муж Александры Ивановны, пятидесятилетний красавец, который жалуется: «Не мне нравятся женщины, а я им». Ситуации сходные. И объяснения там и здесь сходные — это объяснения вчетвером… Но только внешне сходные, а по существу, по самой драматургической сути — неизмеримо разные. У Розова все — в комнате, и все бурно дискутируют. Все психологические связи вывернуты напоказ, все — перед глазами. Сидят друг перед другом четверо и вслух мучительно выясняют истину, и мы должны поверить, что эдакий-то сокровенный вопрос, который и наедине с собой решать с ходу боишься, — с кем останешься, Верочка? — можно выяснить в подобном публичном разбирательстве… Арбузов на первый взгляд нарушает реальность мизансцены, он вводит… духов. Да, да, в момент решающего объяснения Александры Ивановны с Греком на сцене появляются призраки его жены и ее мужа, призраки
участвуют в разговоре реальных лиц, более того, они вмешиваются в разговор, чуть ли не подсказывая реплики. И вдруг вас поражает догадка: так ведь эти-то вот призраки и есть реальнейшая реальность! Грек и Александра Ивановна сидят вроде бы наедине, ночью, на скамейке в пустынном парке, им вроде бы никто не мешает объясниться, и вместе с тем они связаны по рукам и ногам теми незримыми нитями, которые живут в их сознании, и разорвать эти нити нет сил, потому что мысль о людях, с которыми ты связан, мысль — призрачное движение токов в коре мозга — и есть самая неумолимая реальность твоей жизни. «Идем, милый», — спокойно произносит жена Грека, призраком вырастающая около скамейки. «Бедная Саша», — вздыхает на другой стороне муж Александры Ивановны. «Спокойной ночи», — говорит Грек здесь, в реальном мире, на парковой скамейке. И уходит. «Вот и все», — подытоживает женщина. Двадцать лет назад они встречались, любили друг друга; она тогда ошиблась… или испугалась его любви. Теперь не вернешь… жизнь слишком реальна, чтобы обращаться вспять.
Вы заметили, наверное, что Алексей Арбузов никак не может кончить пьесу? Облетают листья, уезжает из города Александра Ивановна, стоят с цветами ее воспитанники, все давно сказано, а занавеса все нет, и все звучат какие-то светлые и печальные слова, и все не может оборваться мелодия… И здесь ни при чем та псевдопьеса о деятельности Дома культуры, которая лежит на поверхности, — эту-то псевдолинию можно оборвать на любой реплике, скажем вот на этой: «Завтра приедет новый руководитель драмкружка», или: «Следующую пьесу поставьте современную…» Но ту непроявленную и нереализованную подспудную драму о женщине, прожившей не свою жизнь, — ту «недодраму», которая скрыта где-то в глубине, — ее Арбузов никак не может закончить. Потому что у нее нет конца.
Я слышал фразу в фойе Малого театра: Нифонтова-де в роли Александры Ивановны хороша, а вот Бабанова — решительно плоха. Мое субъективное мнение: Бабанова вообще органически не может быть «решительно плоха», и все же, я думаю, зритель не без основания увлекся игрой Р. Нифонтовой. Нифонтова сыграла характер, она сыграла то, чего в пьесе не было: она сыграла женщину, в которую все немножечко влюбляются и которую в конце концов начстроительства Праздников спасает, увозя с собой, — так же как в «Обрыве» у Гончарова промышленник Тушин увозил, спасая, потерпевшую поражение в любви Веру… Р. Нифонтова наполняет роль каким-то своим, скажем так, неарбузовским содержанием, и реальное действие кое-как гальванизируется. Бабанова же играет чистую духовность, она играет точно то самое, что есть в пьесе, — и не убеждает, потому что духовность и в самой пьесе не реализована.
Не реализована! Спускаясь на землю, воображенная эта духовность оборачивается какими-то удивительно рассудочными прописями. Не требуйте с клуба дохода. Давайте разучивать западные танцы. Или, как в момент наибольшего взлета воображения сказал один из лучших воспитанников Александры Ивановны, Тарас Лодочкин: досугом дорожить умейте.
Тарас Лодочкин сказал:
«При коммунизме будет полный порядок — три часа в сутки на телят, вроде обеденного перерыва, а остальное время на философию, математику, поэзию».
Максим Горький тоже задумывался над этими проблемами.
В 1926 году (когда вековая мечта человечества перестроить мир разумно и навсегда избавить его от материальной нужды впервые приобрела вполне реальную определенность на одной шестой планеты) Горький писал одному из своих российских корреспондентов;
«О том, «что будет через сто лет», я думаю не так, как вы, — если говорить об этом серьезно. Мне кажется, что даже и не через сто лет, а гораздо скорей жизнь будет несравнимо трагичнее той, коя терзает нас теперь. Она будет трагичнее потому, что — как всегда это бывает вслед за катастрофами социальными — люди, уставшие от оскорбительных толчков извне, обязаны и принуждены будут взглянуть в свой внутренний мир, задуматься—.еще раз — о цели и смысле бытия. Таковых людей народится неисчислимо более того числа, кое ныне существует на земле. Думается мне, что уже теперь у людей возникает, зарождается новый инстинкт, — «инстинкт познания». Имейте в виду: я говорю не о тревоге разума, свойственной некоторым холоднокровным Шопенгауэрам и Гартманам, не об увлекательной игре логикой, а именно об инстинкте. Познание же как сила инстинктивная, между прочим, вновь способно претворить телеологию в теологию.
Жили мы — и живем до сего дня инстинктом голода, откуда истекло все, именуемое цивилизацией, инстинктом любви, создавшем все, что мы зовем культурой, и вот находимся накануне возникновения третьего инстинкта, который неизбежно должен возникнуть на почве всех наших трагических разочарований. Вообразите, что будет, если десятки и сотни тысяч людей воспылают страстью догадаться не о том, как удобнее жить, а о том— зачем жить. Вот что я думаю». (См. «Литературное наследство», т. 70, стр. 134–135).