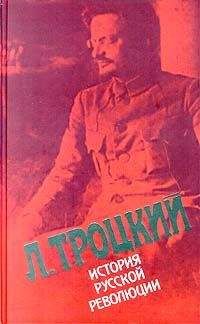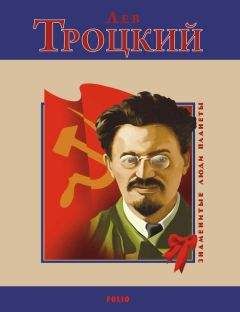17 июля 1791 года Лафайет расстрелял на Марсовом поле мирную демонстрацию республиканцев, которые пытались обратиться с петицией к Национальному собранию, прикрывавшему вероломство королевской власти, как русские соглашатели через 126 лет прикрывали вероломство либералов. Роялистская буржуазия надеялась при помощи своевременной кровавой бани справиться с партией революции навсегда. Республиканцы, еще не чувствовавшие себя достаточно сильными для победы, уклонились от боя, что было вполне благоразумно. Они даже поспешили отмежеваться от петиционеров, что было во всяком случае недостойно и ошибочно. Режим буржуазного террора заставил якобинцев на несколько месяцев притихнуть. Робеспьер нашел убежище у столяра Дюпле, Демулен скрывался, Дантон провел несколько недель в Англии. Но роялистская провокация все же не удалась: расправа на Марсовом поле не помешала республиканскому движению прийти к победе. Великая французская революция имела, таким образом, свои «июльские дни» и в политическом, и в календарном смысле слова.
Через 57 лет «июльские дни» выпали во Франции на июнь и приняли неизмеримо более грандиозный и трагический характер. Так называемые «июньские дни» 1848 года с непреодолимой силой выросли из февральского переворота. Французская буржуазия провозгласила в часы своей победы «право на труд», как она возвещала, начиная с 1789 года, много великолепных вещей, как она поклялась в 1914 году, что ведет свою последнюю войну. Из пышного права на труд возникли жалкие национальные мастерские, где 100 тысяч рабочих, завоевавших для своих хозяев власть, получали по 23 су в день. Уже через несколько недель щедрая на фразу, но скаредная на монету республиканская буржуазия не находила достаточно оскорбительных слов для «тунеядцев», сидевших на голодном национальном пайке. В избыточности февральских обещаний и сознательности предыюньских провокаций сказываются национальные черты французской буржуазии. Но и без этого парижские рабочие с февральским ружьем в руках не могли бы не реагировать на противоречие между пышной программой и жалкой действительностью, на этот невыносимый контраст, который каждый день бил их по желудку и по совести. С каким спокойным и почти нескрываемым расчетом, на глазах всего правящего общества, Кавеньяк давал восстанию разрастись, чтобы тем решительнее справиться с ним. Не менее двенадцати тысяч рабочих убила республиканская буржуазия, не менее 20 тысяч подвергла аресту, чтобы отучить остальных от веры в возвещенное ею «право на труд». Без плана, без программы, без руководства июньские дни 1848 года похожи на могущественный и неотвратимый рефлекс пролетариата, ущемленного в самых своих элементарных потребностях и оскорбленного в самых своих высоких надеждах. Восставших рабочих не только раздавили, но и оклеветали. Левый демократ Флокон, единомышленник Ледрю-Роллена, предтечи Церетели, заверял Национальное собрание, что восставшие подкуплены монархистами и иностранными правительствами. Соглашателям 1848 года не нужно было даже атмосферы войны, чтобы открыть в карманах мятежников английское и русское золото. Так демократы прокладывали дорогу бонапартизму.
Гигантская вспышка Коммуны так же относилась к сентябрьскому перевороту 1870 года, как июньские дни – к февральской революции 1848 года. Мартовское восстание парижского пролетариата меньше всего было делом стратегического расчета. Оно возникло из трагического сочетания обстоятельств, дополненного одной из тех провокаций, на которые так изобретательна французская буржуазия, когда страх подстегивает ее злую волю. Против планов правящей клики, которая прежде всего стремилась разоружить народ, рабочие хотели оборонять Париж, который они впервые пытались превратить в свой Париж. Национальная гвардия давала им вооруженную организацию, очень близкую к советскому типу, и политическое руководство, в лице своего Центрального Комитета. Вследствие неблагоприятных объективных условий и политических ошибок Париж оказался противопоставлен Франции, не понят, не поддержан, отчасти прямо предан провинцией и попал в руки разъяренных версальцев, имевших за спиною Бисмарка и Мольтке. Развращенные и битые офицеры Наполеона III оказались незаменимыми палачами на службе нежной Марианны, которую пруссаки в тяжелых ботфортах только что освободили из объятий мнимого Бонапарта. В Парижской коммуне рефлективный протест пролетариата против обмана буржуазной революции впервые поднялся до уровня пролетарского переворота, но поднялся, чтобы тут же упасть.
Спартаковская неделя в январе 1919 года в Берлине принадлежит к тому же типу промежуточных полуреволюций, что и июльские дни в Петрограде. Вследствие преобладающего положения пролетариата в составе немецкой нации, особенно в ее хозяйстве, ноябрьский переворот автоматически передал Совету рабочих и солдат государственный суверенитет. Но пролетариат политически был тождествен с социал-демократией, которая снова отождествляла себя с буржуазным режимом. Независимая партия занимала в немецкой революции то место, которое в России принадлежало эсерам и меньшевикам. Чего не хватало, это – большевистской партии.
Каждый день после 9 ноября создавал у немецких рабочих живое ощущение того, что у них что-то уходит из рук, отнимается, уплывает меж пальцев. Стремление удержать завоевания, закрепиться, дать отпор нарастало со дня на день. Эта оборонительная тенденция и лежала в основе январских боев 1919 года. Спартаковская неделя началась не в порядке стратегического расчета партии, а в порядке давления возмущенных низов. Она развернулась вокруг третьестепенного вопроса о сохранении поста полицейпрезидента, хотя по своим тенденциям представляла начало нового переворота. Обе организации, участвовавшие в руководстве, спартаковцы и левые независимые, были застигнуты врасплох, шли дальше, чем хотели, и в то же время не шли до конца. Спартковцы были еще слишком слабы для самостоятельного руководства. Левые независимые останавливались перед такими методами, которые только и могли привести к цели, колебались и играли с восстанием, комбинируя его с дипломатическими переговорами.
Январское поражение по числу жертв далеко не поднимается до гигантских цифр «июльских дней» во Франции. Однако политическое значение поражения не измеряется одной лишь статистикой убитых и расстрелянных. Достаточно того, что молодая коммунистическая партия оказалась физически обезглавленной, а независимая партия обнаружила, что, по самому существу своих методов, не может привести пролетариат к победе. С более широкой точки зрения «июльские дни» разыгрались в Германии в несколько приемов: январская неделя 1919 года, мартовские дни 1921 года, октябрьское отступление 1923 года. Вся последующая история Германии исходит из этих событий. Незавершенная революция переключилась на фашизм.
Сейчас, когда пишутся эти строки – начало мая 1931 года, – бескровная, мирная, славная (список этих прилагательных всегда один и тот же) революция в Испании подготовляет на наших глазах свои «июньские дни», если брать календарь Франции, или «июльские» по календарю России. Мадридское временное правительство, купаясь во фразах, которые нередко кажутся переводом с русского языка, обещает широкие меры против безработицы и земельной тесноты, но не смеет прикоснуться ни к одной из старых социальных язв. Коалиционные социалисты помогают республиканцам саботировать задачи революции. Трудно ли предвидеть лихорадочный рост возмущения рабочих и крестьян? Несоответствие хода массовой революции и политики новых правящих классов – вот источник того непримиримого конфликта, который в развитии своем либо погребет первую, апрельскую революцию, либо приведет ко второй.
Хотя основная масса русских большевиков чувствовала в июле 1917 года, что дальше какой-то черты идти еще нельзя, однако полной однородности настроения не было. Многие рабочие и солдаты склонны были оценивать развертывавшиеся действия как решающую развязку. Метелев в своих воспоминаниях, написанных пять лет спустя, выражается о смысле событий в таких словах: «В этом восстании нашей главной ошибкой было то, что мы предлагали соглашательскому Исполнительному комитету взять власть… Следовало не предлагать, а захватывать власть самим. Второй нашей ошибкой можно считать то, что мы в течение почти двух суток дефилировали по улицам, вместо того чтобы сразу же занять все учреждения, дворцы, банки, вокзалы, телеграф, арестовать все Временное правительство» и пр. По отношению к восстанию это бесспорно. Но превратить июльское движение в восстание значило бы почти наверняка похоронить революцию.
Звавшие на бой анархисты ссылались на то, что «и февральское восстание произошло без руководства партий». Но у февральского восстания были готовые задачи, выработанные борьбой поколений, и над февральским восстанием возвышалось оппозиционное либеральное общество и патриотическая демократия, готовые восприемники власти. Июльское движение, наоборот, должно было проложить себе совсем новое историческое русло. Все буржуазное общество, включая и советскую демократию, было ему непримиримо враждебно. Этого коренного различия между условиями буржуазной и рабочей революции анархисты не видели или не понимали.