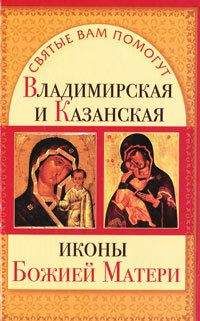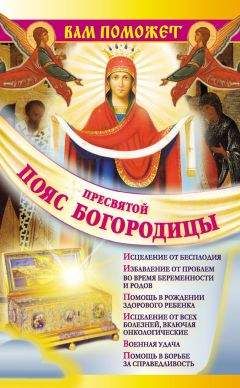Шагая по страницам книги — поглавно, автор словно идет тихим мерным пешим ходом домой. Вот он, сначала, в совсем далеких Домах творчества. Далеких не по географическим меркам, а по сути разговоров и жизни, в них процветающих. Не оставляет поначалу, а потом, к счастью, благополучно забывается раздражение от бестолкового бесконечного гула-говора, противно, навязчиво зудящего в атмосфере, перебиваемого кинематографическим звоном бокалов и чьим-то барским хохотом. Писатели зачастую народ вычурно интеллектуальный, громкий, обидчивый, пьющий и артистический. Это и удается оценить "по-полной" в первой главе.
А дальше… Будто по-сновиденному переходишь в следующий зал и, спотыкаясь в неожиданном мягком и уютном сумраке отвлеченного дневникового повествования — вне времени, начинаешь различать родные, до боли знакомые голоса "своих". Как сладко, как неизбывно, как отвлеченно, как благородно, аристократически начинают звучать умные беседы милых сердцу русских интеллектуалов в передаче тонкого, умного собеседника Курбатова. Как громко и чисто — одинаково (метафизика!) звучат голоса уже ушедших от нас и ныне здравствующих. Перечислить всех невозможно. А выделить имена тех, кто чаще упоминается, а значит, тех, кому отдается больше внимания, довольно легко. Вот эти имена: Юрий Иванович Селиверстов, Виктор Петрович Астафьев, Валентин Григорьевич Распутин, Николай Петрович Бурляев, Виктор Викторович Конецкий, Семен Степанович Гейченко. Придя в предпоследней главе к Гейченко, который, кстати, тоже предстает перед нами настоящим писателем, — почти пришел домой.
Вольное барство Курбатова, если не сказать — духовное эпикурейство, балованное эстетство, навеки связано с исконным христианским крестьянством, с его чудесным чистоплотным и, главное, целомудренным восприятием мира. Автор наслаждается прекрасной, благодатной русской природой. Отсюда его проникновенные, даже слегка изнуряющие своей наполненностью описания природы, неба, цветов, русской живописи, иконописи... Кажется, что для него, как и для Пушкина, самые любимые слова — это "день", "любовь" и "душа". Он общается со всеми, кого встретит — сразу о высоком и главном, вбирая в себя из ответного монолога крупицы оброненной истины; душеполезное, искреннее, меткое слово, выражение, умную мысль, трепетное воспоминание. Восхищает его умение уйти от всего пошлого, наносного, приторного, фальшивого. Он заметно, иногда обидно для окружающих, бережет себя: свой вкус, свой слух, свой взгляд и, главное, свою душу. Он слушает и слышит лишь духовное слово. Увидеть мир и запечатлеть его светлейшим и святейшим оттиском в своём мiре — это ли не вершина творческого созидания, высшего духовного достижения человека?!
В последней главе — с какой статью и достоинством сделан прощальный поклон: "До свидания!": "Как незаметно уходят из дневника былые собеседники, словно скрываются за порогом…. А жизнь смеется, плачет, неистовствует, смиряется. У нее свои законы. А наши дневники — только свидетельство ее неостановимости. Как немолчная работа прибоя, которая говорит, что море дышит, как дышало тысячи лет назад и будет дышать после, чтобы другие люди в другие дни и годы могли сказать: страшно жить, стыдно жить, сладко жить…". Прощальный поклон сделан не только нам — читателям, но и тем многим, кто уже пребывает в Вечности, согревая наши души и сердца светлой драгоценной памятью о себе.
После прочтения ощущаешь себя с неким бременем. Как бы сохранить, донести, выносить это Чудо, чтобы потом с наступлением срока приложиться со священным благоговением к новорождённому Чаду? Как сохранить Слово, талантливо и любовно выложенное мозаикой на полотне дневника? Ведь многое, о чем "впервые" говорилось в 80-е, сейчас густым приторным варом вылилось в интеллектуальные и познавательные телевизионные программы, и сразу как-то обездвижило, окаменело, подобно вулканической лаве, когда-то стремительно и страшно вырывавшейся из раскаленных недр земли, а теперь превращенной в легкую пемзу для чистки пяток.
Как сберечь Слово живым, не дать ему умереть в разуме "любопытствующих"? Для этого нужен грозный дар нового Писателя.
Уильям Морроу однажды изрек: "Хотелось бы, чтобы жены писателей верили, что когда их муж смотрит в окно, он — работает" (да, когда-то было такое понятие: "писательская жена", такое же сакраментальное и статусное, как "профессорская дочка".., прошу прощения за ностальгию). Жен у писателей, конечно, не стало меньше (если не сказать наоборот), а вот писателей…. Перефразируя Морроу: хотелось бы, чтобы русское общество, питая уважение и почтение к высокому званию "писатель", глядя на одинокую писательскую спину у окна, верило бы, что он — работает…. Одна из последних записей Виктора Петровича Астафьева: "Возможно, что литература двадцать первого века будет отпеванием человека, отображением его полного банкротства и краха". Возможно, что так…. Но пока литература в лице писателя задумчиво водит пальцем по запотевшему стеклу, отстраненно наблюдает или озабоченно вглядывается в "сегодняшнюю погодку", и не торопится никого отпевать. Может, все-таки Воскресения ждет?
1
Инна Романова __ И СТОЛ, И ДОМ
Недавно в Доме Нащокина открылась 10-я персональная выставка Владимира Любарова, на этот раз посвященная теме еды. Несмотря на то, что сам художник не выглядит таким же любителем вкусно провести время, любовь к пище, незамысловатой или, напротив, сложносочиненной, и размышления о принятии оной внутрь — невооруженным глазом отмечаются в каждой работе Любарова, чьи картины в 90-е годы можно было видеть не только в галереях, но и на этикетках вино-водочной продукции. Задумчивые, чуть наивные, живущие собственной закрытой жизнью любаровские персонажи ездят на велосипедах, гуляют по крышам, стоят в очередях, бьются головой о стенку, целуются, отмечают юбилеи, — исполняя, между тем, возвышенную и трогательную оду закуске. Перемилово — отдельный маленький мир, вполне себе придуманный… Он совершенно не похож на то, что мы видим каждый день по телевизору: там нет гламурных блондинок и свирепых чиновников, нет стриженых бандитов и обиженных домохозяек. Наверное, там даже не слышали о чем-то подобном, а если даже и слышали, то, наверное, посмеялись и пошли себе дальше — есть, пить и веселиться. Ведь Перемилово — это другая планета, где всё перечисленное не то что невозможно, но просто не нужно. Персонажи Любарова похожи на философов, которые не ищут смысла бытия. Они беззаботно едят борщ — и этим всё сказано. Они едят его даже во время наводнения, Всемирного потопа, ибо, что бы ни творилось, — обед по расписанию! Если бы "у них" случился кризис, то перемиловцы его бы точно не заметили. Какой кризис, если можно продолжать играть в домино и обнимать весьма округлые формы любимых женщин, жующих с таким наслаждением любимые шоколадные печенья?!
Интерес представляют не только "утопии" Любарова, но и его короткие рассказы-воспоминания. В них он легко и нежно описывает своё детство и своё меню, своего внука и знакомого гаишника, который не берет взяток. Особую ценность представляют кулинарные секреты бабушки Любарова, чей нехитрый стол зиждился на фаршированной рыбе, котлетах, квашеной капусте и хлебе. Всё это хочется попробовать, и жаль, что устроители выставки не предоставляют подобной возможности. "Подогретое пиво", коммунальные квартиры, семейные посиделки, игры в домино — всё это стало безвозвратным прошлым. Однако оно снова оживает в любаровских холстах и записках. Его герои пьют молоко и сливки из треугольных пакетов-"пирамидок", а водку, как положено, — из горла. Полные белокожие женщины загорают обнаженными, а иногда сажают на колени маленьких своих мужчин. Откуда что берется?
В советское время Любаров был главным художником популярного и даже "культового" в определенных кругах тогдашней интеллигенции журнала "Химия и жизнь". Но всеобщую известность получил именно благодаря серии своих лубочных персонажей, балансирующих на грани жгучей ностальгии и мучительным глумлением над формами будничной русской жизни.
Любаров одновременно и воспевает, и поносит русскую глубинку, сам незаметно превращаясь в одного из своих персонажей. На первый взгляд образованный и интеллигентный Любаров определенно не производит впечатления праздно отдыхающего мужичка в телогрейке. Однако, если внимательно присмотреться к нему, то в его лице нет-нет, да и мелькнет особое незамысловатое выражение, присущее решившего все вопросы философу. Выражение человека, мечтающего о квасе и пирожках.
P. S. В Доме Нащокина любаровские работы занимают не только основные залы, но и подвальный этаж, в котором находится шкаф, расписанный художником.