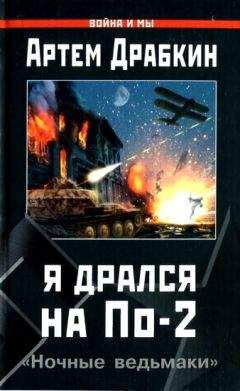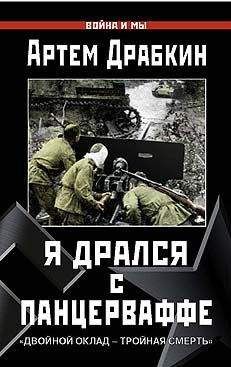— Как строился распорядок дня?
— Жили в деревне. После ночи поспишь часов до 10 утра, а потом разбор полетов. Пообедали и опять на аэродром километра 2–3 пешком. Кормили средненько, но, во всяком случае, не голодали. Черный хлеб, белого хлеба не было. Осенью картошку давали, а так крупа — ячневая, перловая, иногда пшено, гречка была редко. Консервы. Мяса почти не было. Потом американские консервы пошли, повкуснее. Масло давали. Но бывало, конечно, что не подвезут… Бортпайка не было. 100 граммов давали, когда полк воюет. Если боевых вылетов не было — не давали. Водка такая дерьмовая была, так от нее воняло — ужас! Я вначале совсем не пил. Под конец начал пробовать. И курить начал.
— Шоколад давали?
— Нет. Когда я уже на истребителях воевать стал, там давали шоколад и кока-колу.
Весной 1943 года мне присвоили звание лейтенанта. Я уже был заместителем командира эскадрильи. Какой-никакой, а У-2 — это самолет. И я чувствовал, что стал летчиком, «влетался», все мог делать на самолете, тем более что до него я летал на СБ, УТИ-4, Р-5. Я уже чувствовал, что могу сделать больше на другом самолете. В это время была возможность переучиться на истребители, Ил-2 или Пе-2.
Запасной полк в знакомой Максатихе. Поехал. Быстро переучился на Як-1 и ЛаГГ-3. Летал. Командир учебной эскадрильи пригласил меня, предложил остаться инструктором. Я говорю: «Нет. Я воевать учился». — «Подучись, воевать лучше будешь». Я согласился. Некоторое время учил молодых летчиков. Сырые пилоты — что могли, мы им там давали. Но некоторые даже не стреляли, потому что у нас буксировщика конуса не было. Вскоре пришла разнарядка пополнить полк истребителей. Я первый пришел записываться. Меня опять стали уговаривать остаться. Я говорю: «Нет, тем более вы мне обещали, что пойду в боевой полк», и меня отпустили в 5-ю гвардейскую истребительную дивизию. Она базировалась в Демьянске. Вначале меня определили командиром звена в 68-й гвардейский истребительный полк. Через месяц или два стал заместителем командира эскадрильи. Месяца четыре полк не воевал, переучивался на «кобры». Я быстро сам переучился и стал вывозить летчиков своей эскадрильи, а потом и полка. Только весной 1944 года нас направили на фронт в район Витебск — Полоцк. Командиром эскадрильи был Герой Советского Союза Грачев Иван Михайлович, очень осторожный человек, воевал аккуратно. Можно сказать, что он уже навоевался и никак не желал встречи с противником.
В одном из вылетов получилось так, что он вел первое звено, а я — второе. Нам в хвост заходит группа, штук шесть ФВ-190. Начинаю чуть-чуть разворачивать, думаю, сейчас они окажутся у нас в хвосте, а он так и идет по прямой. Его сбили. Он был в плену. Его встречали после войны в лагере военнопленных и больше не видели…
Меня назначили на его место. Вообще, я как летчик был «влетанный», но стрелял вначале слабовато. Меня часто атаковали и попадали, и сам много атаковал, стрелял, попадал, но они не падали — сбивать не получалось. Как-то раз шлепнулся — сбили в воздушном бою, и пришлось садиться на лес. Оказался в госпитале в Ярославле. У меня были ноги по биты, лицо обгорело, а рядом со мной на топчане лежал человек — видно, летчик, прикрыт регланом. Он все молчит и молчит. Потом смотрю, реглан отвернулся, открылась грудь, я по ней червячки ползают. Приходит нянька. Я ей говорю: «Вы что же, етить вашу мать?! Человека черви грызут, а вы?!» Пришла медсестра: «Чего шумишь? Да у него рана гниет, а эти черви гной снимают». Во ведь какие лекарства были?! Потом этот летчик пришел в себя. Рассказал, что начал воевать в Испании, сбили его на «Томагавке». Разговорились. Я ему: «Сколько не атакую, а не могу сбить самолет!» Он меня стал спрашивать, какое вооружение стоит на «кобрах», как я прицеливаюсь, стреляю: «Так ты никогда не попадешь! Пока не увидишь закопчение на обшивке самолета от патрубков мотора, не стреляй — все равно не попадешь». Я его поблагодарил за совет. В госпитале я пробыл недолго и не то чтобы удрал, а попросил выписать. Приехал в полк. Деталями этого разговора особенно не делился — расскажи, смеяться будут. Пошли воевать — это уже лето 1944 года. Был такой момент, я атаковал немцев, штурмовавших землю, вцепился за одного ведомого. Сближаюсь. Меня уже начало трепать в спутной струе. Закопчения я заметил метров с 50–100. На моей «кобре» стояла 37-мм пушка и два пулемета 12,7-мм. На одну гашетку я их не выводил — выстрелишь все, и ни хрена не останется. Открыл огонь из пулеметов. Увидел, как он вздрогнул, от него дым пошел, и он упал. Это был первый сбитый. И в последующих боях дальше чем со 100–150 метров никогда не стрелял. А ведь в бою, когда идешь в атаку сзади почти всегда тоже идет немец. Но тут надо идти ва-банк — если атакуешь, то атакуй, а если только начинаешь сомневаться, лучше не идти в истребители! У меня хватало выдержки сблизиться и сбить самолет противника. За короткий срок сбил 15 самолетов.
— Кто у вас был ведомым?
— Вначале был осетин небольшого роста Коля Зибоин. Мне его рекомендовали, и он мне понравился — летал отлично. Потом появилась вакансия командира звена — и я его рекомендовал на эту должность. В полк пришли из запа летчики, прошедшие небольшое обучение на «яках». На «кобрах» они не летали и не видели их. В их числе был одессит Николай Подопригора. Он окончил школу на И-16, часов пять-шесть полетал на «яках» в запе. Вел он себя безобразно — в карты играл, бузил. Никто не хотел его брать себе ведомым. Он ко мне привязался: «Командир, научи меня». Я его проверил на «яке», выпустил на «кобре», потренировал его ходить строем и держаться на маневре. Надо сказать, что держался он неплохо. Как он после войны признался, где-то первые вылетов тридцать ничего не видел, кроме хвоста моего самолета. Летал на полном наддуве карбюратора, каждый раз рискуя, поскольку при таком режиме шатуны летели. Бензина американского у нас не было, а был наш Б-78. Мы использовали двигатель на 60–70 % мощности. Для этого устанавливали наддув 40 фунтов, а он взлетал на 40, а потом давал все 65. Стук в двигателе был, но он держался. Так до конца войны со мной и летал. Сбивать не думал, лишь бы удержаться, за мной смотреть. А Зибоина сбили — и он погиб.
— Говорят, что обычно, когда сбивают истребителя, он и не видит, кто его сбивает.
— Конечно. Под конец войны мы стояли под Кенигсбергом. Возле города Пилау немцы поднимали аэростаты для корректировки артиллерийского огня. Нас послали парой их уничтожить. Ведомым у меня полетел молодой летчик Рожнев. Нашел я аэростат. Он был на земле. Мы зашли, проштурмовали — он загорелся. Делаем повторный заход, смотрю, мимо меня трасса проходит. Я маневр, смотрю — пара «кобр» выходит из атаки. Я прилетаю домой, докладываю: «Что же получается?! Свои бьют своих!» Разобрались. Оказалось, что это вылетал Леонид Быковец из 28-го гиап. Вроде он меня спутал с «мессером». Как он меня мог спутать, если в этом районе одни «фокки-190» были?! Он еще потом «героя» получил по блату. Сам москвич, а его тетя ведала торговыми организациями. Ездил в Москву, подарки привозил… Кстати, это был мой последний воздушный бой, если его так можно назвать, в Великой Отечественной войне.
— Как вам «кобра»?
— Хороший самолет. Кабина элегантная, просторная. Дверь, как в автомобиле. Зимой делаешь любую температуру. Не шумит, не обдувает. Вооружение хорошее. Легко в штопор входила? Вот такой случай был. Прикрываем штурмовиков. Я перешел с одной стороны на другую. Вдруг вижу, около меня разворачивается немецкий истребитель. Я на него. Прибираю газ — и он прибирает. Потом переводит самолет на горку и дает полный газ. Я за ним, но наддув больше 40 не даю. Он уходит вверх — и я иду. Потянулись вверх параллельно крыло в крыло метрах в 15 друг от друга с хорошим углом. Идем, идем. Скорость уже посадочная, миль 150, не больше, самолет дрожит, зависает. Тут он бах — свернулся. И я еле-еле с горки ушел. Но он-то первым свалился! Вроде упал он, но точно не знаю.
— Какой номер «кобры» у вас был?
— Не обращал на это внимание. Отличительные знаки полка — белые полосы на хвосте и фюзеляже, но вообще-то на это внимания не обращал.
— Звездочки рисовали?
— Ни в коем случае, это серьезно. Делом надо было заниматься.
— Где было тяжелее, в истребительной авиации или на У-2?
— Нет такого понятия — тяжелее.
— Где вам было комфортней?
— После войны на земле. Ты понимаешь, истребители тоже несли большие потери в воздушных боях. На У-2 ночью летали на хорошо защищенные цели — тоже свои неприятности. Война в любом случае — это плохо. Как-то можно к ней приспособиться, войти в ситуацию, быстрее решать внезапно возникающие задачи, но нравиться она не может. Я, например, никогда не трусил и был уверен, что, чем больше человек думает о себе, тем меньше о том, что он делает. Я не тратил внимания на спасение собственной шкуры — знал, что ей надо платить. Все внимание я сосредоточивал на выполнении боевой задачи, будь то бомбардировка цели или прикрытие группы штурмовиков.