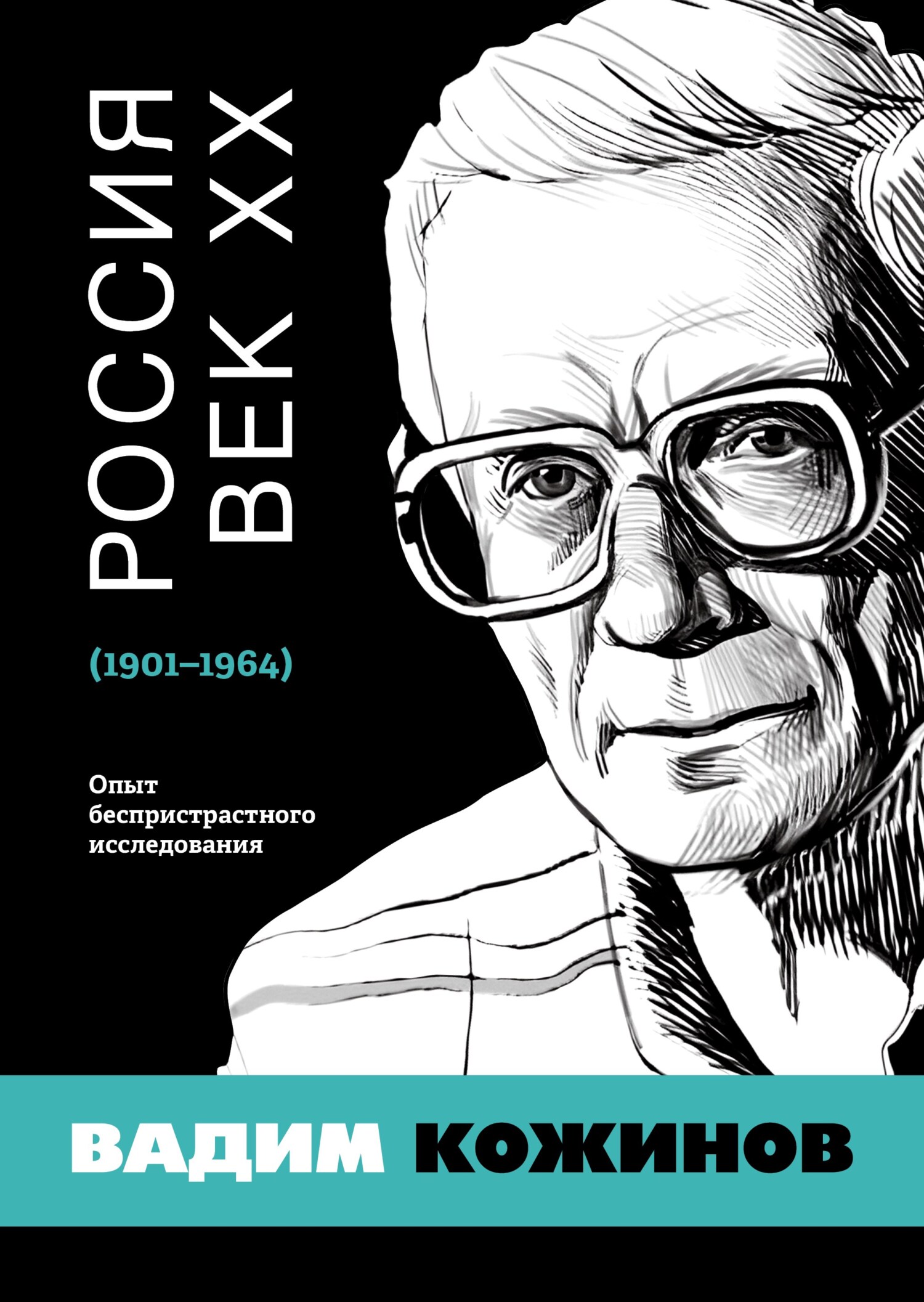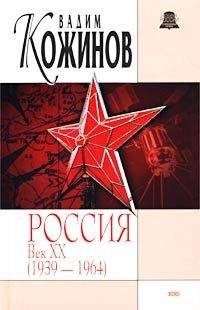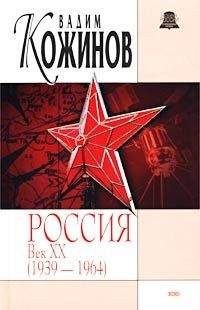один из тридцати трех фронтовиков этого возраста «вернулся живым».
Нельзя не сказать и о том, что из «исчезнувших» мужчин указанного возраста далеко не всех можно считать погибшими на фронте. Дело в том, что из 8,8 млн женщин тех же 1919–1923 годов рождения к 1949 году осталось 7,6 млн, и, значит, 1,2 млн из них погибли, то есть только в три раза меньше, чем мужчин. Поскольку в армии находилось менее 0,6 млн женщин (всех возрастов) [745] и они не ходили в штыковые атаки, ясно, что абсолютное большинство из 1,2 млн «исчезнувших» молодых женщин погибли от вражеского террора, голода, холода, разрухи и т. п. И от тех же причин погибли, по всей вероятности, едва ли меньшее (чем женщин) количество мужчин того же возраста. Ведь в силу самой биологической природы мужчин они в экстремальных ситуациях значительно менее выносливы, чем женщины. Я убедился в этом еще в юном возрасте, в конце войны, когда узнал о том, что из моих многочисленных ленинградских родственников в годы блокады погибли почти все мужчины, а женщины, напротив, в большинстве своем выжили. Особенно важно отметить, что речь идет о мужчинах, не находившихся в армии; даже те, кто сражались на рубежах блокированного Ленинграда, получали намного большее количество продовольствия, чем гражданские лица в самом городе, и гибель для них была менее вероятной…
Определенная часть «исчезнувших» молодых мужчин оказалась в эмиграции, куда, как уже сказано, ушли 5,5 млн человек, и естественно полагать, что доля именно молодых мужчин была среди них немалой.
Наконец, в число «исчезнувших» мужчин входят люди особенной «категории», которую редко учитывают при выяснении потерь, – гражданские лица, оказавшиеся на оккупированных территориях, объявленные врагом военнопленными и заключенные в соответствующие лагеря. Сколько было таких жертв врага, трудно или вообще невозможно установить, но ясно, что дело идет о миллионах…
Эти люди разделили страшную судьбу военнопленных, которые, по сути дела, попросту уничтожались врагом… Нередко можно прочитать, что в этом, мол, виноват опять-таки Сталин, не подписавший в 1929 году Женевскую конвенцию о военнопленных. Эта версия давно и убедительно опровергнута [746], но тем не менее доверчивым читателям продолжают внушать, что в уничтожении миллионов действительных и мнимых военнопленных виноваты-де не враги, а свои…
Нелепо уже само предположение о том, что Германия была готова соблюдать по отношению к нам какие-либо «принципы»; хотя бы уже из одного факта превращения в военнопленных гражданских лиц ясно: никакие «нормы» враг не соблюдал.
Вот, например, фрагмент дошедшего до нас предельно четкого приказа от 11 мая 1943 года по 2-й германской танковой армии (до декабря 1941 года ею командовал знаменитый Гудериан, снятый со своего поста за отступление под Москвой):
«При занятии отдельных населенных пунктов нужно немедленно и внезапно захватывать имеющихся мужчин в возрасте от 15 до 65 лет, если они могут быть причислены к способным носить оружие… объявить, что они впредь будут считаться военнопленными и что при малейшей попытке к бегству будут расстреливаться» [747].
Судьба военнопленных и тех, кого неправомерно объявили военнопленными, была настолько чудовищной, что даже некоторые германские руководители различных рангов пытались изменить положение, – разумеется, не из «гуманности», а по прагматическим соображениям. Так, уже на девятнадцатый день войны, 10 июля 1941 года, чиновник министерства по делам восточных территорий Дорш, пораженный увиденным, докладывал из захваченного врагом еще 28 июня Минска своему патрону Розенбергу:
«В лагере для военнопленных в Минске, расположенном на территории размером с площадь Вильгельмплац [748], находится приблизительно 100 тыс. военнопленных и 40 тыс. гражданских заключенных. Заключенные, загнанные в это тесное пространство, едва могут шевелиться и вынуждены отправлять естественные потребности там, где стоят… живут по 6–8 дней без пищи, в состоянии вызванной голодом животной апатии…». Между тем, продолжал Дорш, «огромную работу в тылу фронта невозможно выполнить только с помощью немецкой рабочей силы, а во-вторых… изо дня в день возрастает угроза эпидемии…» [749] (этими соображениями и продиктована «забота» о пленных).
Позднее, 28 февраля 1942 года, уже и сам Розенберг писал начальнику штаба Верховного главнокомандования вооруженными силами Кейтелю: «Война на Востоке еще не закончена, и от обращения с военнопленными в значительной мере зависит желание сражающихся красноармейцев перейти на нашу сторону… Это цель пока не достигнута. Напротив, судьба советских военнопленных в Германии стала трагедией огромного масштаба. Из 3,6 млн (сюда, без сомнения, причислены и захваченные к тому времени гражданские лица. – В. К.) в настоящее время вполне работоспособны только несколько сот тысяч. Большая часть их умерла от голода или холода… во многих случаях, когда военнопленные не могли на марше идти вследствие голода и истощения, они расстреливались на глазах приходившего в ужас гражданского населения… В многочисленных лагерях вообще не позаботились о постройке помещений для военнопленных. В дождь и снег они находились под открытым небом. Им даже не давали инструмента, чтобы вырыть себе ямы или норы в земле… Можно было слышать рассуждения: “Чем больше пленных умрет, тем лучше для нас”» [750].
Тогда же, в феврале 1942-го, «Военно-экономический отдел» Верховного командования «сетовал» в официальном циркуляре: «Нынешние трудности с рабочей силой не возникли бы, если бы своевременно были бы введены в действие советские военнопленные. В нашем распоряжении находилось 3,9 млн военнопленных (разумеется, вместе с гражданскими лицами. – В. К.), теперь их осталось всего 1,1 млн. Только в декабре 1941 г. погибли полмиллиона…» [751].
Но все подобные возражения ничего не могли изменить, так как армия была с самого начала нацелена не только на захват страны, но и на уничтожение ее жизненной силы, и, значит, прежде всего на уничтожение тех, кто способен носить оружие.
Начальник армейской разведки и контрразведки Германии адмирал Канарис еще 15 сентября 1941 года писал о «вредных последствиях» того «обращения с военнопленными», которое господствует в германской армии и которое он определял так: «…военная служба для советских граждан отнюдь не рассматривается как выполнение воинского долга, а… характеризуется в общем и целом как преступление. Тем самым отрицается применение военно-правовых норм». И благодаря этому, предупреждал Канарис, «облегчается мобилизация и сплочение всех внутренних сил сопротивления России в единую враждебную массу» [752].
Однако подобные предупреждения оставались втуне. В основе действий вражеской армии лежало «геополитическое» убеждение, согласно которому война ведется против «азиатских недочеловеков». Даже 26 октября 1943 года, то есть уже после Курской битвы, начальник по делам военнопленных при Верховном командовании генерал Греневитц объявил в своем очередном приказе:
«Слабодушные, которые будут говорить о том, что при теперешнем положении надо обеспечить себе путем мягкого обращения “друзей” среди военнопленных, являются распространителями пораженческих настроений и за разложение боеспособности привлекаются