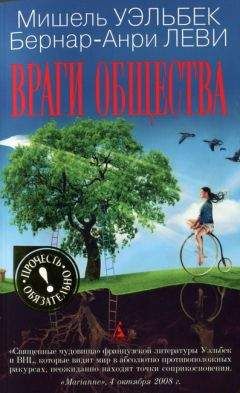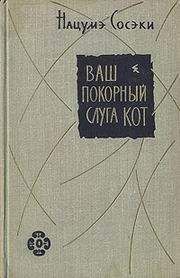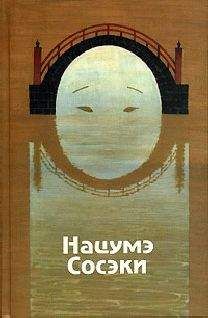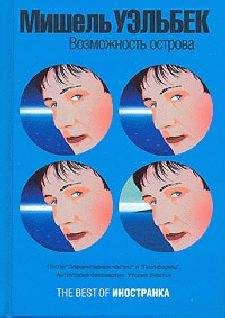Таким образом, будущее Франции обеспечено. Неужели французы мнят, будто достигнут высот в области программного обеспечения и изготовления микропроцессоров? Что мы наладим мощное производство на экспорт? Что Париж станет финансовым центром? Бросьте! Какую-то промышленность, необходимую для привлечения туристов, мы безусловно сохраним (духи, высокую моду, французскую кухню от знаменитого шеф-повара Жоэля Робюшона). Ну и в виде исключения нам разрешат выпускать поезда — без собственных поездов французам не обойтись.
Стало быть, я беспрекословно соглашаюсь с нынешним всемирным разделением труда? Да, соглашаюсь, а как иначе? На мировой арене «новые лидеры», они стремительно богатеют — и на здоровье! А мы поможем им порастрясти мошну. Если меня спросят напрямик: «Неужели вы не боитесь, что Франция превратится в музей и жизнь в ней иссякнет? Не боитесь, что Франция станет большим публичным домом для туристов? вся целиком уподобится Парижу, из которого мэр Бертран Деланоэ, провозвестник нового времени, сделал образцовый туристический центр?» — отвечу мгновенно, не задумываясь: «НЕ БОЮСЬ».
Вот видите, как я походя спас экономику Франции! Наша переписка приносит несомненную пользу обществу, это очевидно.
Рад был нашей недавней утренней встрече, дорогой Мишель.
Жаль только, что неполадки с электричеством помешали посмотреть ваш фильм.
Но не будем обращать внимания на досадную отсрочку, очень скоро мы все его увидим. Признаюсь, я от души позабавился той маленькой комедией, которую мы разыграли. Люди, что ждали вместе с нами, как мне кажется, искренне поверили, что мы едва знакомы, в упор друг друга не видим и говорить нам не о чем.
Я всегда знал, что из меня получился бы прекрасный тайный агент.
Вы бы тоже недурно справились с этой ролью.
Замечу по ходу дела, что публика вообще предпочитает писателей, которые в действительности были секретными агентами.
Все превозносят писателей-дипломатов, но совмещение двух этих профессий противоестественно, настоящий оксюморон. (К счастью, Клодель забывал, что он посол, когда писал «Познание Востока». А еще я так и слышу жалобы бабушки моей жены Ариэль, супруги Гаро-Домбаля, французского посла в Мексике, кстати, хорошей поэтессы, ее высоко ценили сюрреалисты, и Клодель, между прочим, тоже — она все горевала, что званые обеды, официальные письма и приемы не дают ей писать…)
Зато писатель-шпион в самом деле интересен! Шпионское ремесло литератору под стать! Загляните в биографию Кёстлера, Оруэлла, Ле Карре. Возьмите случай Кожева[56], о котором теперь доподлинно известно, что он работал на КГБ. Вспомните Вольтера, уважаемого корреспондента Людовика XV, живущего при дворе Фридриха II. Казанову и венецианских дожей. Бомарше, добывающего оружие для американских революционеров, и сто пятьдесят лет спустя Мальро, делавшего то же самое для испанских республиканцев. Прочитайте воспоминания Энтони Бланта, которые вышли в издательстве «Кристиан Бургуа» двадцать три года тому назад, а потом его работы о Пикассо, Пуссене, архитектуре Франсуа Мансара. Обнаружите залежи писательского таланта. Магические кристаллы чистейшей воды. Откровенней всех, а значит, и точнее сформулировал этот писательский парадокс Пруст в эссе «Против Сент-Бева»: «Я всех обманываю… Я не тот, кем кажусь… Как приятно, когда тебя принимают за другого, а ты, позаимствовав чужую личность, разбойничаешь под прикрытием этой маски, крадешь черты, грабишь сердца, души и жизнь своих современников…»
Однако вернемся к нашим баранам.
Не буду снова сердиться, попрекая вас историей о нацисте, убитом в метро. Замечу только: вы притворились, будто ничего не поняли, но выстрел в 1943 году в немецкого офицера посреди Парижа нельзя назвать «убийством первого попавшегося». Ну да ладно.
Не буду сердиться по поводу несчастных чеченцев: никому нет до них дела, и вам в том числе, так что им остается одно: умереть достойно и тихо. Конечно, у Толстого, как вы пишете, есть «что-то» о них, это «что-то» — «Хаджи Мурат», один из последних его шедевров. Эта повесть позволяет понять, как маленький народ-мученик может обернуться гордым великим народом, не умеющим покоряться, готовым до последнего отстаивать свою свободу, а Путины прошлого и настоящего только и знают, что «мочат» его. Мне бы очень хотелось, чтоб вы это поняли… Но я знаю: настаивать бесполезно, нет смысла повторять: если государство уничтожает от десяти до двадцати процентов населения одного из подвластных ему народов, стирает с лица земли столицу одной из республик и превращает половину ее территории в выжженную зону, ground zero, — это уже не «внутреннее дело», а наше общее! Но вы опять скажете, что я проповедую, поэтому мне лучше умолкнуть.
Оставим в покое Барреса, хотя и здесь все не так просто, как вам хотелось бы. Осмелюсь напомнить — чтобы оценить неоднозначность этого писателя, нужно вернуться вспять. Существует совсем другой Баррес, не тот, над которым вы издеваетесь. Не примитивный националист, автор «Одухотворенного холма», громко бьющий в барабан и кричащий о «Великой беде церквей Франции», не заклятый враг Дрейфуса, предтеча фашистов. Есть еще юный Баррес — романтик с обнаженными нервами, создатель «Культа Я», «Беспочвен-ников», сердцем преданный Венеции, влюбленный в Толедо, скиталец Баррес, которым восхищались Мальро и Арагон. Он бы как никто оценил ваше рассуждение о странах-гостиницах.
Оставим все это. Как ни странно, больше всего меня задело ваше сравнение человека с «камнем, брошенным в пустоту», якобы иллюстрирующее мысль о нашей «полной свободе». И ваш вывод: все мы странники в этом мире и рано или поздно обязаны «освободить гостиничный номер».
Любопытный образ.
Как вам известно, греки построили на подобном основании целую философскую систему, основы которой заложили Демокрит и Эпикур.
Впоследствии примерно о том же говорил Лукреций. Он представлял себе вселенную как безграничную пустоту, в которой сыплется град камней, траектории их параллельны, но изредка возникает «клина-мен», едва заметное отклонение от траектории, и тогда камни встречаются и, встречаясь, формируют тела.
Этот образ (замечу в скобках) завораживал и до вас писателей и поэтов — от Овидия до Монтеня, от Боссюэ до Рембо и Лотреамона, — всех, кто приходил в восхищение от поэмы «О природе вещей», кто считал ее пророческой («провидческой», как определял сам Лукреций; Рембо называл это «ясновидением»[57]).
Этот образ (снова замечу в скобках) близок к научному факту, поскольку немало серьезных людей двадцать веков спустя признают его весьма точным. Маркс и Энгельс видели в Эпикуре и Лукреции величайших мыслителей и считали теорию «клинамена», незаметного отклонения атомов, подобий ваших камней и комет, одним из источников своей диалектики. Серьезные ученые, такие как Дарвин, создатель таблицы химических элементов Дмитрий Менделеев, автор теории движения жидких и газообразных тел Броун, многие выдающиеся астрофизики и, само собой, просто физики, исследователи электронов, протонов, атомного ядра и самих атомов — все считали поэму Лукреция, описывающую дождь мельчайших частиц в пустоте, их отклонения и завихрения, близкой к истинной картине мира.
Так что возмутил меня вовсе не образ как таковой.
Меня задело другое, и задело очень чувствительно; я попытаюсь объяснить, что именно.
Раздумывая об этом — а с тех пор как получил ваше письмо, я только об этом и думаю, — я сказал себе: в этом образе (и в философии, которая с ним связана) меня смущает очень многое.
Ну, во-первых, невольно кружится голова, как только представишь себе бескрайнюю, безграничную пустоту.
Во-вторых, тот факт, что в пустоте, не имеющей ни конца ни начала, сталкиваются, ударяются, отпрыгивают и закручиваются в вихри камни, танцуя сарабанду и жигу, как повешенные в балладе Вийона, как страдальцы в кругах Дантова ада, как несчастные, полетевшие с башен 11 сентября, у меня восторга не вызывает. Скажу честно, ни малейшего.
В-третьих. Настораживает, напрягает, пугает необратимость этого движения. Падение, и к тому же вечное. Клинамен, да, согласен. Изменение траектории, да, замечательно. Но все изменения каким-то чудом происходят только в одном направлении, только вниз и вниз. Лукреций говорит буквально следующее:
…Никакие тела не имеют возможности сами
Собственной силою вверх подниматься и двигаться кверху…
И предостерегает:
Чтобы тебя не ввело в заблужденье горящее пламя,
Ибо, лишь вспыхнет оно, всегда разгорается кверху…[58]
Единожды начавшееся падение, настаивает Лукреций, невозможно остановить, можно только падать и падать, другого не дано, тут действует даже не энтропия, а мощнейший цикл Карно, не скольжение, а оседание, опадание, стопроцентное обваливание, не оставляющее никакой иной возможности, не дающее даже надежды на отсрочку, хотя бы длиной в наносекунду. Брр!