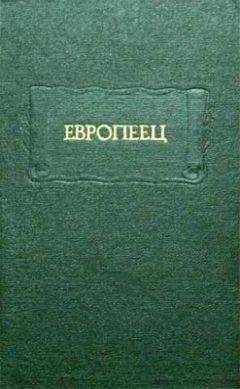Едучи домой, Дубровин был в неописанном волненьи. Неожиданная удача, удача, спасающая его от неизбежной гибели, конечно, его радовала, но некоторые слова Опальского смутили его сердце. «Что за перстень? — думал он. — Некогда принадлежал он Опальскому; мне подарила его жена моя. Какие отношения были между нею и моим благодетелем? Она его знает! Зачем же всегда таила от меня это знакомство? Когда она с ним познакомилась?» Чем он более думал, тем он становился беспокойнее; все казалось странным и загадочным Дубровину.
«Опять отказ? — сказала бедная Александра Павловна, видя мужа своего, входящего с лицом озабоченным и пасмурным. — Боже! что с нами будет!» Но, не желая умножить его горести: «утешься, — прибавила она голосом более мирным, — бог милостив, может быть, мы ползшим помощь, откуда не чаем».
«Мы счастливее, нежели ты думаешь, — сказал Дубровин. — Опальский дает десять тысяч… Все слава богу».
«Слава богу? отчего же ты так печален?» «Так, ничего… Ты знаешь этого Опальского?»
«Знаю, как ты, по слухам… но ради бога…»
«По слухам… только по слухам. Скажи, как достался тебе этот перстень?»
«Что за вопросы! Мне подарила его моя приятельница Анна Петровна Кузмина, которую ты знаешь: что тут удивительного?»
Лицо Александры Павловны было так спокойно, голос так свободен, что все недоумения Дубровина исчезли. Он рассказал жене своей все подробности своего свидании с Опальским, признался в невольной тревоге, наполнившей его душу, и Александра Павловна, посердясь немного, с ним помирилась. Между тем она сгорала любопытством. «Непременно напишу к Анне Петровне, — сказала она. — Какая скрытная! никогда не говорила мне об Опальском. Теперь поневоле признается, видя, что мы знаем уже половину тайны».
На другой день, рано поутру, Опальский сам явился к Дубровину, вручил ему обещанные десять тысяч и на все выражения его благодарности отвечал вопросом: «Что еще прикажете?»
С этих пор Опальский каждое утро приезжал к Дубровину, и «что прикажете» было всегда его первым словом. Благодарный Дубровин не знал, как отвечать ему, наконец привык к этой странности и не обращал на нее внимания. Однако ж он имел многие случаи удостовериться, что вопрос этот не был одною пустою поговоркою. Дубровин рассказал ему о своем деле, и на другой же день явился к нему стряпчий и подробно осведомился о его тяжбе, сказав, что Опальский велел ему хлопотать о ней. В самом деле, она в скором времени была решена в пользу Дубровина.
Дубровин прогуливался однажды с женою и Опальским по небольшому своему поместью. Они остановились у рощи над рекою, и вид на деревни, по ней рассыпанные, на зеленый луг, расстилающийся перед нею на необъятное пространство, был прекрасен. «Здесь бы, по-настоящему, должно было построить дом, — сказал Дубровин, — я часто об этом думаю. Хоромы мои плохи, кровля течет, надо строить новые, и где же лучше?» На другое утро крестьяне Опальского начали свозить лес на место, избранное Дубровиным, и вскоре поднялся красивый, светлый домик, в который Дубровин перешел с своим семейством.
Не буду рассказывать, по какому именно поводу Опальский помог ему развести сад, запастись тем и другим: дело в том, что каждое желание Дубровина было тот час же исполнено.
Опальский был как свой у Дубровиных и казался им весьма умным и ученым человеком. Он очень любил хозяина, но иногда выражал это чувство довольно странным образом. Например, сжимая руку благоденствованному им Дубровину, он говорил ему с умилением, от которого навертывались на глаза его слезы: «Благодарю вас, вы ко мне очень снисходительны!»
Анна Петровна отвечала на письмо Александры Павловны. Она не понимала ее намеков, уверяла, что и во сне не видывала никакого Опальского, что перстень был подарен ей одною из ее знакомок, которой принес его дворовой мальчик, нашедший его на дороге. Таким образом, любопытство Дубровиных осталось неудовлетворенным.
Дубровин расспрашивал об Опальском в его поместье. Никому не было известно, где и как он провел свою молодость; знали только, родился он в Петербурге, был в военной службе, наконец, лишившись отца и матери, прибыл в свои поместья. Единственный крепостной служитель, находившийся при нем, скоропостижно умер дорогою, а наемный слуга, с ним приехавший и которого он тотчас отпустил, ничего об нем не ведал.
Народные слухи были занимательнее. Покойный приходской дьячок рассказывал жене своей, что однажды, исповедуясь в алтаре, Опальский говорил так громко, что каждое слово до него доходило. Опальский каялся в ужасных преступлениях, в чернокнижестве; признавался, что ему от роду 450 лет, что долгая эта жизнь дана ему в наказание и неизвестно, когда придет минута его успокоения. Многие другие были россказни, одни других замысловатее и нелепее; но ничто не объясняло таинственного перстня.
Беспрестанно навещаемый Опальским, Дубровин почитал обязанностью навещать его по возможности столь же часто. Однажды, не застав его дома (Опальский собирал травы в окрестности), он стал перебирать лежащие на столе его бумаги. Одна рукопись привлекла его внимание. Она содержала в себе следующую повесть:
«Антонио родился в Испании. Родители его были люди знатные и богатые. Он был воспитан в гордости и роскоши; жизнь могла для него быть одним праздником… Две страсти — любопытство и любовь — довели его до погибели.
Несмотря на набожность, в которой его воспитывали, на ужас, внушаемый инквизицией (это было при Филиппе II)[1], рано предался он преступным изысканиям: тайно беседовал с учеными жидами, рылся в кабалистических книгах долго, безуспешно; наконец край завесы начал перед ним приподниматься.
Тут увидел он в первый раз донну Марию, прелестную Марию, и позабыл свои гадания, чтобы покориться очарованию ее взоров. Она заметила любовь его и сначала казалась благосклонною, но мало-помалу стала холоднее и холоднее. Антонио был в отчаянии, и оно дошло до исступления, когда он уверился, что другой, а именно дон Педро де-ла-Савина владел ее сердцем. С бешенством упрекал он Марию в ее перемене. Она отвечала одними шутками; он удалился, но не оставил надежды обладать ею.
Он снова принялся за свои изыскания, испытывал все порядки магических слов, испытывал все чертежи волшебные, приобщал к показаниям ученых собственные свои догадки, и упрямство его, наконец, увенчалось несчастным успехом. Однажды вечером, один в своем покое, он испытывал новую магическую фигуру. Работа приходила к концу; он провел уже последнюю линию: напрасно!.. фигура была недействительна. Сердце его кипело досадою. С горькою внутреннею усмешкою он увенчал фигуру свою бессмысленным своенравным знаком. Этого знака недоставало… Покой его наполнился странным жалобным свистом. Антонио поднял глаза… Легкий прозрачный дух стоял перед ним, вперив на него тусклые, но пронзительные свои очи.
„Чего ты хочешь?” — сказал он голосом тихим и тонким, но от которого кровь застыла в его сердце и волосы стали у него дыбом. Антонио колебался, но Мария предстала ему со всеми своими прелестями, с лицом приветливым, с глазами, полными любовью… Он призвал всю свою смелость. «Хочу быть любим Мариею», — отвечал он голосом твердым.
„Можешь, но с условием”.
Антонио задумался. „Согласен! — сказал он наконец, — по для меня этого мало. Хочу любви Марии, но хочу власти и знания: тайна природы будет мне открыта?”
„Будет, — отвечал дух. — Следуй за своею тенью.” Дух исчез. Антонио встал. Тень его чернела у дверей. Двери отворились: тень пошла, — Антонио за нею.
Антонио шел, как безумный, повинуясь безмолвной своей путеводительнице. Она привела его в глубокую уединенную долину и внезапно слилась с ее мраком. Все было тихо, ничто не шевелилось… Наконец земля под ним вздрогнула… Яркие огни стали вылетать из нее один за другим; вскоре наполнился ими воздух: они метались около Антонио, метались миллионами; но свет их не разогнал тьмы, его окружающей. Вдруг пришли они в порядок и бесчисленными правильными рядами окружили его на воздухе. „Готов ли ты?” — вопросил его голос, выходящий из-под земли. „Готов”, — отвечал Антонио.
Огненная купель пред ним возникла. За нею поднялся безобразный бес в жреческом одеянии. По правую свою руку он увидел огромную ведьму, по левую такого же демона.
Как описать ужасный обряд, совершенный над Антонио, эту уродливую насмешку над священнейшим из обрядов! Ведьма и демон занимали место кумы и кума, отрекаясь за неофита Антонио от бога, добра и спасения; адский хохот раздавался по временам вместо пения; страшны были знакомые слова спасения, превращенные в заклятия гибели. Голова кружилась у Антонио; наконец прежний свист раздался; все исчезло. Антонио упал в обморок, утро возвратило ему память, он взглянул на божий мир — глазами демона: так он постигнул тайну природы, ужасную, бесполезную тайну; он чувствовал, что все ему ведомо и подвластно, и это чувство было адским мучением. Он старался заглушить его, думая о Марии.