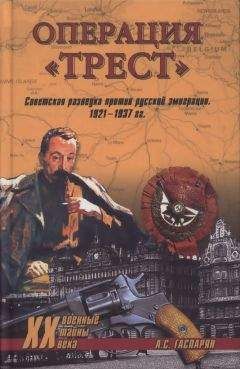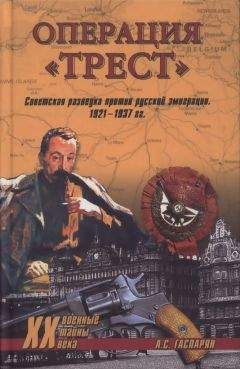И вот наступил момент, когда я вспомнил, кем они сказаны. Случилось это в тот день, когда Ленинградская студия телевидения показала телеспектакль «Кюхля». Не знаю, в какое именно мгновение вспомнил я, что слова о петербургских переулках принадлежат Тынянову; это и не важно. Они не были произнесены, а я вспомнил их; но теперь они наполнились новым смыслом: я увидел, в каком контексте они сказаны в романе и что за ними стоит.
«Портрет» Петербурга помещен Тыняновым в той именно главе, где описывается декабрьское восстание, и достигает своей кульминации рассказ о подвиге и трагедии горстки людей, знавших, что они стремятся совершить почти невозможное, и вышедших на заведомо неравный бой, чтобы наверняка погибнуть. Тынянов относится к Петербургу, как к человеку, и портрет города тесно связан с духом и пафосом романа.
Но такого портрета в телеспектакле «Кюхля» нет. Нет и фразы о петербургских переулках. Зато есть дух романа, его пафос. Вспоминаются два выразительных и характерных эпизода: Пушкин читает на экзамене «Воспоминания о Царском Селе»; Грибоедов читает Кюхельбекеру «Горе от ума». В этих эпизодах не произносится ни одного слова: автор сценария и постановщик Александр Белинский поступил не только тактично, но и очень мудро, избавив актеров от необходимости изображать, как гений читает свое гениальное творение, — просто мы видим маленькую фигурку лицеиста или очки молодого Грибоедова и слышим ликующую музыку из «Бури» Чайковского. И именно поэтому мы наблюдаем не данную минуту чтения, но созерцаем момент триумфа человеческого духа. Величие человека как творца передается здесь через его конкретный, частный облик.
Сейчас это стало почти законом для наших фильмов и спектаклей, в которых действуют исторические личности, но еще некоторое время назад такой подход был в определенном смысле нов. Тогда еще режиссеры часто руководствовались правилом, в силу которого Пушкина, скажем, надо было изображать не человеком, а непременно основоположником (вспомним хотя бы кинофильм «Композитор Глинка», где Пушкин усердно и благонравно цитирует самого себя). В «Кюхле» — другой Пушкин (Д.Барков). Я имею в виду эпизод встречи на дороге, по которой Кюхельбекера везут в Динабургскую крепость. Такой Пушкин появляется в спектакле всего один раз, но до сих пор мне помнится это хмурящееся, еще до встречи омраченное каким-то тайным гневом лицо во весь экран, эти бешено горящие глаза, этот неистовый вопль: «Вильгельм!!!» — потрясший, казалось, все его тело, эти исступленные препирательства с опешившим жандармом… Нет, не хрестоматийный «корифей» предстал здесь на экране, не сусальный бодрячок, неунывающий живчик, и не обряженный в костюм XIX века усталый современный интеллигент из тех, кто всё понимает, — а натура без подделки, живая и огненная, — и начинаешь верить: а, может быть, так это и было… Грибоедов — В.Рецептер — личность во всем своеобразии, во всей, я бы сказал, интимности неповторимого облика. В этом изящном, суховатом, скептическом человеке есть тот нерв, та чуткость, та внутренняя боль, без которых Грибоедова нельзя себе представить. Дело тут не просто в умении и искусности актеров и постановщика. Дело еще и в том, что в «Кюхле» был верно почувствован и найден жанр. И жанр именно телевизионный.
О специфике телевидения говорят и пишут много; больше всего о формах общения со зрителем, формах, которые — будь они «интимны», лиричны, публицистичны и прочее — сходны между собой в главном: в непосредственности, открытости, прямоте такого общения. Это справедливо; и отсюда вытекает один из основных, на мой взгляд, законов телевизионного спектакля (именно телеспектакля, не телефильма). Состоит этот закон в том, что телеспектакль, условно говоря, — есть более рассказ и менее действие, чем обычный театральный спектакль.
Под «рассказностью» я разумею принципиальное «взламывание» перегородки, отделяющей зрелище от зрителя, принципиальные «выходы к зрителю» — иными словами, именно то прямое общение, которое свойственно устному рассказу (не эстрадному, а самому обыкновенному), делающему слушателя собеседником и как бы даже соучастником — нет, не внешнего действия, не «сюжета» рассказа, но процесса самого рассказывания. В этом процессе между рассказчиком и слушателем образуется особый внутренний, духовный контакт, при котором одинаково важны и сам «сюжет» рассказа, и его интерпретация данным рассказчиком, а стало быть, и личность этого, данного рассказчика. Рассказывающий сам становится как бы частью рассказа, даже если речь идет не о нем самом.
Под «выходами к зрителю» я подразумеваю не столько «общение с камерой», буквальный выход на авансцену — этого у нас и в театре сейчас достаточно, — но самые разнообразные формы более или менее прямого общения с аудиторией, и, прежде всего, определенный стиль актерской игры. Мне представляется, что в специфически телевизионном спектакле актер как персонаж более условен, а как исполнитель, интерпретатор, рассказчик — более безусловен, нежели в театре. Связано это с тем, что характерная особенность телевидения — его «домашность», интимность в сочетании с наиболее мощным его орудием — крупным планом — неизбежно выдвигает вперед личность выступающего по телевидению; в телеспектакле — личность актера.
В обычном спектакле исполнитель в значительной мере «поглощается» персонажем, который, в свою очередь, «поглощен» общим действием, «сюжетом».
В телеспектакле происходит обратное, крупный план то и дело концентрирует «сюжет» в персонаже, и в герое «вскрывает» исполнителя. Персонаж становится нам интересен не только сам по себе, но еще и именно в облике данной, этой личности, данного, этого «рассказчика». Все это, мне кажется, глубоко характерно для телевизионного спектакля «Кюхля». Перед нами не спектакль и тем более не фильм в обычном смысле этих слов (хотя «Кюхля» снят на пленку и демонстрировался много раз). Представленная на сцене или показанная в кино, эта постановка казалась бы распадающейся на ряд весьма произвольно отобранных, мало связанных между собой кусков романа. Более или менее четкая сюжетная конструкция, характерная, как правило, для спектакля и для фильма, который идешь смотреть в кино, тебе здесь, дома, не навязывается. Здесь не имитируются естественное течение жизни, плавное и непрерывное перетекание одного эпизода в другой, создающее иллюзию независимого от автора хода событий.
Здесь показывают страницы из романа Юрия Тынянова, прочитанные и представленные актерами Ленинграда. Здесь воссоздается не событийная цепь существования героя, а ряд основных звеньев его внутренней жизни; прослеживаются самые общие связи между этими звеньями; опускаются весьма важные — в самом романе — эпизоды, которые, безусловно, были бы необходимы в театре или кино, но без которых тут можно обойтись. Нет, например, сцены «самоубийства» Кюхли в Лицее, нет его дуэли с Пушкиным, нет сцены — очень сильной, — где он бьет помещика, издевающегося над крепостным, нет страшного эпизода со шпицрутенами. Пребывание Кюхли на Кавказе и за границей, декабрьское восстание — все это в спектакле или фильме должно бы (или могло бы) быть показано куда более широко. Из всего этого выбраны лишь моменты, необходимые для создания внутреннего облика Кюхли.
Скупость в выборе эпизодов увеличивает удельный вес авторского текста, стихов, монологов, рисованных символических заставок, которыми сцены перемежаются, как страницы книги — иллюстрациями. Такое построение, такой принцип отбора эпизодов — не по внешнесобытийной, а по внутренней линии, по «жизни духа», — приводит к характерному для этого телеспектакля и для телеспектакля вообще переключению внимания зрителя с событий на личность героя.
События в широком смысле — продолжающаяся история страны, жизнь общества, к которому герой принадлежит, — все это присутствует, но дается, прежде всего, через героя. А значит, крупным планом выступает и личность артиста, не исчезающая до конца в образе. Нет, она не заслоняет собою образ, не лезет в глаза, назойливо навязываясь нам и крича: «Это я, я!» (именно так высказываются в личности ее худые стороны). Оставаясь собою, она все время устремлена к образу, находится, так сказать, в непрерывном процессе перехода в образ, так что в герое то и дело «просвечивает» исполнитель, а в исполнителе — герой. Вот в этом-то процессе «отдачи себя», в готовности к такой отдаче, а не в кичливом самоутверждении, как раз и выступает вперед творческая, нравственная, гражданская личность актера, приближаемая к нам крупным планом телевидения.
…Одна из заставок, перемежающих эпизоды, изображает нависшие над Петербургом копыта медного Петрова коня. Трагически раздвоенный город; город, где даже переулки стремятся быть проспектами; город казарм. Город поэзии и доносов. «Люблю твой строгий, стройный вид» — «Дух неволи, стройный вид». «Не было воздуха», — пишет Тынянов. Заставка предваряет эпизоды трагедии 14 декабря. Одним из последствий этой трагедии было массированное наступление на человеческую личность как на серьезную опасность, мешающую функционировать системе, налаживаемой Николаем. Об этой трагедии роман «Кюхля» и спектакль того же названия рассказывают, повествуя именно о судьбе личности.