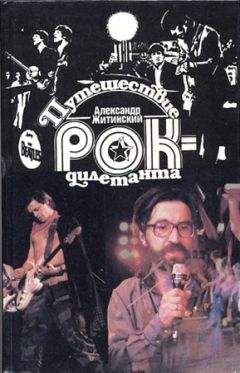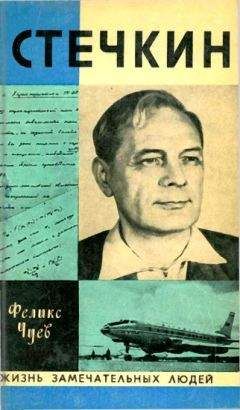— Знаешь, — говорю, — мне отец на новый год подарил меховую шапку. Экстравагантнейшая вещица! Она сделана из лисьего меха, спереди даже нашита шкура с мордочки лисы, где две бусины вместо глаз, а сзади — не поверишь! — вот такой хвост, сантиметров тридцать пять. Мы когда пришли в магазин, я долго смеялся и не верил, что такое можно носить. А потом примерил и понял, что батя попал в точку. Все, кто видел мою шапку, в один голос утверждают, что она идет мне, как родная.
Пока я расписывал с восторгом папин подарок, Маше в седалище медленно входила раскаленная игла. Только так можно объяснить преображение ее лица.
— Что-о-о? Шапка с хвостом и мордочкой лиси-и-ички? Это что за ужас та-а-акой?
Я оглянулся в ничтожной надежде увидеть пример где-нибудь вокруг нас. Но недаром же папа выбрал эксклюзив: рядом висели на вешалках только самые тривиальные головные уборы. И лишь где-то поодаль восседала дама в гривастом парике.
— Маш, этого не объяснить, это надо видеть своими глазами. В следующий раз, когда мы встретимся, я обязательно приду в ней.
Машу аж заколотило от моего безмерного хамства.
— Ко мне на свидание? В таком уродстве? Ты меня сразу предупреди, чтобы я не шла!
— Ну, неординарно, не спорю. Так в этом-то и прелесть! Или ты боишься, что на меня будут смотреть, как на идиота?
— Мне все равно, как на тебя будут реагировать другие. Главное, что я сама буду смотреть на тебя, как на идиота.
Бывают в жизни мгновения ослепительного исчерпывающего знания. Когда вдруг все становится ясно разом, будто включили свет.
Я понял, что передо мной сидит обыкновенное быдло.
Все наши предыдущие встречи Маша усердно практиковалась в артикуляции звука «тц». Ее аккуратный язычок прижимался к верхнему небу, а потом отскакивал вниз с этим звонким цыканьем. При этом голова качалась из стороны в сторону, а зрачки, патетически закатываемые, пытались заглянуть в лобную долю мозга. Это был универсальный ответ на любые неизвестные ей вещи, которые я рассказывал, на любые нестандартные вопросы, которые я задавал, на любой неожиданный для нее вывод, который я делал. Сначала это выражалось фразами вроде «Ты такой умный — куда прям деваться» или «Ты меня сейчас совсем загрузишь. Тебе бы книжки писать», ну а потом благополучно окуклилось до условного знака «тц». Но как же зыбко и ненадежно впечатление умного человека! Тебе прочат карьеру энциклопедиста, но стоит махнуть лисьим хвостом на шапке, как ты — идиот, с которым и встречаться-то дальше стыдно.
Есть в логике такое понятие, как остенсивные определения. Это когда ты раскрываешь значение чего-либо не через существенные признаки, а на осязаемом примере (английское «ostensible» — «очевидный с внешней стороны», «явный»). То есть когда тычешь пальцем и говоришь: «Вот это вот с колесиками — машина». Мне в тот момент очень захотелось взять какого-нибудь подвернувшегося ребенка за руку, указать на Машу и дать остенсивное определение: «Малыш, вот это вот — быдло. Не становись таким».
Вы вполне можете меня обвинить в несоразмерности реакции на машино высказывание. Да, мол, она погорячилась, сравнивая тебя с идиотом, но нельзя же так обливать человека помоями. Но. я сейчас постараюсь вам объяснить свою позицию. Все дело в том, что термин «быдло» в наше время явно требует смысловой доработки. Мы привыкли, как только звучит это смрадное слово, представлять себе немытого, похмельного мужлана, орущего матом и харкающегося мерзостью нам под ноги. Мы привыкли ассоциировать это слово с образом неотесанности, тупой силы и культурно-интеллектуального дефицита. Но это только внешние признаки, природа же явления обладает куда большей глубиной. И вот я хочу высказать мысль, что быдло — это в первую очередь любой манипулируемый человек, не видящий в окружающем мире ничего, кроме пресловутых внешних признаков, и — самое главное — уверенный, что так и надо. Быдло — это отсутствие всякого сомнения в своей правоте и всякого желания прикоснуться к сути вещей. Быдло — это толпа, не терпящая анизотропии[8] и стремящаяся подавить, унизить, высмеять инакость и самостоятельность. Быдло — это неспособность и нежелание задаваться вопросами. А поэтому я утверждаю, что машино поведение полностью изобличает в ней этот социокультурный феномен. Ее мозг не устроен так, чтобы спросить саму себя: «Неужели идиотизм человека заключается в своеобразности его стиля?» Как бы по-разному не смотрелись нечистоплотный шпанюк в трехполосных трениках и мерзнущая на входе в «Рай» VIP-статуэтка, хвастающаяся сумочкой за две тысячи нефтедолларов, они — две соседние головы одной и той же гидры. Их ведут— не они. И все их мировоззрение укладывается в формулы: «Не, ну Хой чиста здравый пацан, гадом буду в натуре» и «Эта как бы че за неформат?» Скажи этой светской стелле, что «Adidas» с рынка — это «формат», а шпанюку, что еженедельные посещения маникюрного салона — это «здраво», и они легко заменят друг друга в их примитивной системе. Сущность быдла позволяет ему быть взаимоконвертируемым, как бы не рознились внешние атрибуты. Главное, чтобы команду дал их кумир, заменитель головы. Как та самая машина подруга, которая навязывает ей волю во всем: от планов на выходные до кольца на пальце.
Моя мама по этой идиотической шапке узнала меня за триста метров среди других людей. Мы с отцом, возвращаясь из бани, шли по улице, когда она догнала и, неожиданно бросившись сзади, обняла нас обоих.
— А я иду и думаю, что-то знакомый хвост мелькает впереди! — смеялась она. И мне вдруг стало совершенно неважно, что сказала Маша за несколько дней до этого. Как, впрочем, и сама Маша.
Незадолго до этого моего прозрения Маша выдала другое виртуозное коленце. Мы шли по Большому Гнездиковскому переулку, и я рассказывал что-то про эволюцию человека. Маша, судя по ее лицу, мужественно крепилась.
— Примерно четыреста сорок миллионов лет назад, в конце ордовикийского периода, у примитивных позвоночных начался процесс цефализации и…
Договорить мне не дали. Цефализация была последней каплей.
— Так! — впечатала она, резко повернувшись ко мне. — Еще одно такое слово, и я пойду искать ближайшую станцию метро!
— Да зачем ее искать-то? — вздохнул я, и какая-то кромешная усталость разом подмяла меня. — Вон «Тверская» в пяти шагах. Тебе показать?
Маша как-то сразу вильнула, замяла тему. Я тоже не пошел на эскалацию конфликта, и ситуация сама собой устаканилась. Как выяснилось несколькими днями позже, только для того, чтобы высмеяли папин подарок на следующем свидании. Господи, ну чего я такого сказал? Ругался бы я матом — это не произвело бы такого смятения, как слово «цефализация». А всего делов-то: данный термин обозначает формирование головного мозга. Никто из вас сейчас не побежал искать метро? Почему, если я слышу новое слово, я не психую, а интересуюсь его значением? Может, и правда, в нашей стране так поступают только завзятые зануды? Знаете, четыреста сорок миллионов лет — это даже по вселенским меркам солидно. Это, братцы, одна сороковая всего возраста нашего мироздания. Но что мы видим сегодня? Некоторые позвоночные своим поведением явственно демонстрируют: четыреста сорок миллионов лет эволюции профуканы коту под хвост. У них-таки не образовалось мозга. У них там свалка попсы, которую не дай бог кто потревожит чем-то новым и сложным. Но зато они точно знают: шапка с хвостом — это первый разведпризнак идиота.
Несколькими днями позже, гуляя в одиночестве, я оказался где-то на краю Ясенева между улицей Голубинской и улицей Инессы Арманд. В одном из дворов ребята очень талантливо разграфитили трансформаторную будку фантастической панорамой во всю стену. Получилось просто здорово! И была там светлая надпись: «Life goes on…» Но гнетущее впечатление от вышеозначенных событий с хвостом, увы, подвигли меня в тот вечер на дословный перевод: «Жизнь идет на…». Или не все так плохо? А, Маш?
— Знаешь, а почитают нас люди, и ведь не поверят, — задумчиво сказал мне как-то Фил, когда мы занимались первичной редактурой и микшированием наших кусков. — Я иной раз и сам не верю, что мне в жизни попадаются настолько ирреальные кадры.
У Лидии Гинзбург есть верное замечание, что настоящие вещи мы нередко воспринимаем еще труднее, чем бутафорские. Она приводила пример, где на сцене театра был помещен большой резервуар с настоящей водой, символизировавшей озеро. И это на первый взгляд выглядело эфемернее, чем картонные декорации берегов. Когда в стихию сценического, опосредованного привнесена сама вещь, а не игра в нее, контекст стремится ее отторгнуть, разубедить зрителя в реалистичности.
В среде умеренно чудаковатых людей то тут, то там встречаются уникумы столь выразительные, столь истово исповедующие тупизм ультрарадикального толка, что кажутся нам персонажами художественно приукрашенными, как в комиксах. Первой реакцией на них будет попытка найти признаки игры, искусственного образа. «Так не бывает! — кричит наше сознание. — Мир безумен, но не настолько же!» Но вот мы присматриваемся, и до нас, медленно фонареющих от изумления, допирает, что тут все аутентично. Что это не постановка, а честное реалити-шоу. Что отдельные представители нашего мира утапливают педаль в пол до упора, соревнуясь в безумии, и несет их, как пела Ольга Кормухина, «на край мышленья»… И тогда нам, судорожно сглатывающим, хочется домой.