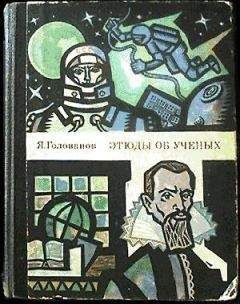Так вот, этот длинный, веснушчатый, близорукий 18-летний книжник, отучившись четыре года в академии, становится школьным учителем в доме графа Эри-си и восемь лет живёт незаметно и, по теперешним понятиям, ужасно скучно в Нормандии, в глухой провинции – шум моря за окном и крохотный кружок соседей – людей ограниченных и невежественных, – вот его мир. «Знать их и видеть каждый день – достаточно для того, чтобы порадоваться всякому бедствию, которое обрушится на них, – с горькой улыбкой пишет он в письме. – Мне приходится жить среди невежд, от которых я не могу даже спрятаться. Вместо того чтобы изучать насекомых и растения, я должен забавлять баб разными глупостями. Говорю – глупостями, потому что в этом обществе нельзя говорить больше ничего другого… Говорю – баб, потому что большая часть их не заслуживает другого названия».
И всё-таки он работает, работает «без отдыха и без торопливости», – как писал он другу. Слуга-негр приносил ему разных животных. Кювье анатомировал их, описывал, зарисовывал, размышлял так, для себя, не веря в ценность своих трудов, да и трудов ли? Ему и химия нравилась, и физика. Геология тоже. И когда через восемь лет случайная встреча открыла его, когда в Париже представлен был он учёным знаменитостям, тогда даже не понял, что же он сделал. Писал Жоффруа Сент-Илеру: «Рукописи, которые вы просите меня прислать вам, без сомнения, содержат только то, что уже давно и гораздо лучше установлено столичными натуралистами, так как они составлены мною без помощи коллекций и книг». Сент-Илер вспоминал: «Кювье считал свои работы ученическими, а между тем, сам того не сознавая и без ведома для всех, уже создавал основы зоологии».
Сент-Илер… Всегда порыв и страсть, добрый, восторженный друг («Мы не завтракали без того, чтобы не сделать открытия», – вспоминал Кювье). Сент-Илер не совсем точен: Кювье не создавал основ зоологии, он сделал нечто большее: он основал две науки – сравнительную анатомию и палеонтологию. Если Карл Линней положил в основу своей классификации чисто внешние признаки, то Кювье прибавил к ним анатомическое исследование. Это была новая ступень в естествознании. Разумеется, до Кювье и анатомировали, и сравнивали, и размышляли, и описывали. Кювье же проделал гигантский синтез, прослеживая изменения каждого органа в длинной веренице животного мира. Палеонтологию он не выделял, работа над ископаемыми костями была просто продолжением прежней работы. Трудно поверить, что всего за сто лет до Кювье учёные мужи выдавали кости саламандры за скелет ребёнка, погибшего при потопе, а он уже произносит свою крылатую фразу: «Дайте мне одну кость, и я восстановлю животное». Кювье описал и реставрировал около 150 видов ископаемых млекопитающих и пресмыкающихся, впервые разобравшись в дотоле бессмысленном хаосе костей. Враг эволюционизма творил своими руками картину эволюции. Недаром несколько лет спустя друг Дарвина Томас Гексли говорил, что, если бы эволюционной теории не существовало, палеонтология должна была бы её выдумать. Мамонты, мастодонты, мегатерии, огромные скелеты, созданные Кювье, поражали воображение. Сам Наполеон просил европейских государей присылать Кювье кости доисторических чудовищ.
Император любил натуралста, награждал орденами, давая важные поручения, выказывая высочайшее доверие. Удивительно, он жил, наверное, в самое бурное и переменчивое время в истории Франции – переворот на перевороте, – но все правители были одинаково милостивы к нему. В общем скромный, нетребовательный человек, искренне называющий себя «обыкновенным» натуралистом, он был между тем членом академии «бессмертных», президентом комитета внутренних дел в государственном совете, королевским комиссаром, кавалером ордена Почётного легиона, пэром Франции. В последние годы жизни он занимал девять весьма высоких государственных постов. Как-то умел он ладить, вовремя сказать, вовремя отмежеваться. Барон Жорж-Леопольд-Кретьен-Фредерик-Дагобер Кювье всегда шёл только вверх.
Кажется, он был счастлив во всём, но в одну точку беспрестанно со страшной жестокой последовательностью била его судьба: сын умер в три месяца, дочь – в четыре года, второй сын – в восемь лет, последняя дочь – накануне свадьбы, в 22 года. Два месяца после этого не выходил он из дому, потом пришёл на заседание государственного совета, сел на председательское место, а когда пришла пора заключать, встал, начал говорить и вдруг зарыдал, закрыл лицо руками. Потом овладел собой, сказал:
– Господа, простите меня… Я был отцом… Я все потерял…
Наверное, не бывает совершенно счастливых гениев.
Кювье умер скоропостижно, в два дня. Ему было 63 года, все говорили: в расцвете сил… Это правда. Здоровый, крепкий был человек. Когда проводили вскрытие, анатомов удивил его мозг: он был на 400 граммов тяжелее мозга обычного человека. Впрочем, это ничего не значит.
Иван Кулибин:
«МОЁ ГЛАВНОЕ СТАРАНИЕ – ИЗОБРЕТАТЬ И ДЕЛАТЬ НОВОЕ…»
В драме великого драматурга А. Н. Островского «Гроза» есть изобретатель Кулигин. Александр Николаевич как бы подчёркивал, что у его героя есть реальный изобретатель, пожалуй, самый известный в России, – Иван Петрович Кулибин. Мне кажется, у Кулигина Островского всё-таки мало общего с реальным Кулибиным. Кулибин масштабнее, крупнее, если хотите – умнее своего литературного двойника. Но драматург был абсолютно точен в другом – в описании немыслимой интеллектуальной духоты, непробиваемого самодовольного невежества, духовной нищеты тех, от кого зависело будущее его героя. Тут главное сходство Кулигина и Кулибина.
Судьба Кулибина напоминает судьбу его современника, другого могучего русского гения – Василия Ивановича Баженова. Подобно проектам Баженова, крупнейшие работы Кулибина так и не увидели света. Осмеянные, затасканные по чиновничьим папкам, пожелтевшие на министерских столах, так и не вошли они в человеческую жизнь. Да, сегодня в одном из залов Отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа в Ленинграде вы можете увидеть знаменитые часы «яичной фигуры». Три года работал Кулибин над этим подарком для Екатерины II, постепенно «приходя к совершенству» в сложнейшей конструкции из 427 деталей. Этот уникальный механизм – единственная до конца завершённая и овеществлённая мечта, которую смог оставить потомкам Кулибин.
Читаешь его жизнеописания и все думаешь: какой же любовью к своему делу, каким терпением и оптимизмом обладал этот человек! Он, часовщик-самоучка, мечтает о массовом производстве и готов отдать в любую мастерскую свои карманные планетарные часы в высшей степени оригинальной конструкции. Ищет средства, пишет черновик объявления – никто не берет, никому не нужно. Проектирует «Зал большого пролёта» – безопорное здание шириной 135 метров – никто не строит. Предлагает царице сделать «подъёмные кресла» – лифт в Зимнем дворце, удобный, абсолютно безопасный (конструктивные элементы его дожили до наших дней), – не стали делать лифта. Кулибин изобретает самодвижущийся педальный экипаж. Два человека приводили его в движение, но он способен был везти ещё двух «праздных людей». Оказалось, никому не нужна его «самокатка».
Он был странен, чужд самому духу российского престола, этот тихий, простой человек в русской одежде, упорно отказывающийся сбрить бороду и надеть немецкий камзол. Никто не мог представить себе, поверить в то, что это лучший механик XVIII века, что искренне и бескорыстно устремляет он «все свои мысли на изобретение казне и обществу полезных машин». Он предлагает усовершенствовать спуск на воду вновь построенных кораблей – чертежи кладутся под сукно, о них вспоминают лишь тогда, когда терпит при спуске аварию 130-пушечный корабль «Благодать». Он предлагает изготовлять металлические протезы для инвалидов, но производить их начинают за рубежом, куда увёз одну из моделей Кулибина предприимчивый иностранец. Он предлагает построить оптический телеграф. Только через сорок лет, уже после смерти Кулибина, начинается его строительство по проекту француза Шато, который был ничем не лучше кулибинского проекта. И вроде бы пожаловаться ему нельзя: почти все прошения на «высочайшее имя» удовлетворяются, даже медаль приказала выбить царица в его честь, за один лишь грандиозный фейерверк в Царском Селе пожаловала ему две тысячи рублей. Потемкин осыпал милостями за слона автомата, потешавшего гостей князя в Таврическом дворце. Шведский король Густав IV говорит: «Этот человек одарён необыкновенными талантами». Римский император улыбается ему: «Я очень рад, что имею случай познакомиться с таким необыкновенным человеком, как вы». И все вокруг необыкновенно улыбаются. Но когда нужны были не славословия, а дело, когда не для потехи скучающих богачей, а для серьёзной работы требовалась помощь, перед изобретателем возникала стена равнодушия, прочно цементированная сиятельным бюрократизмом.