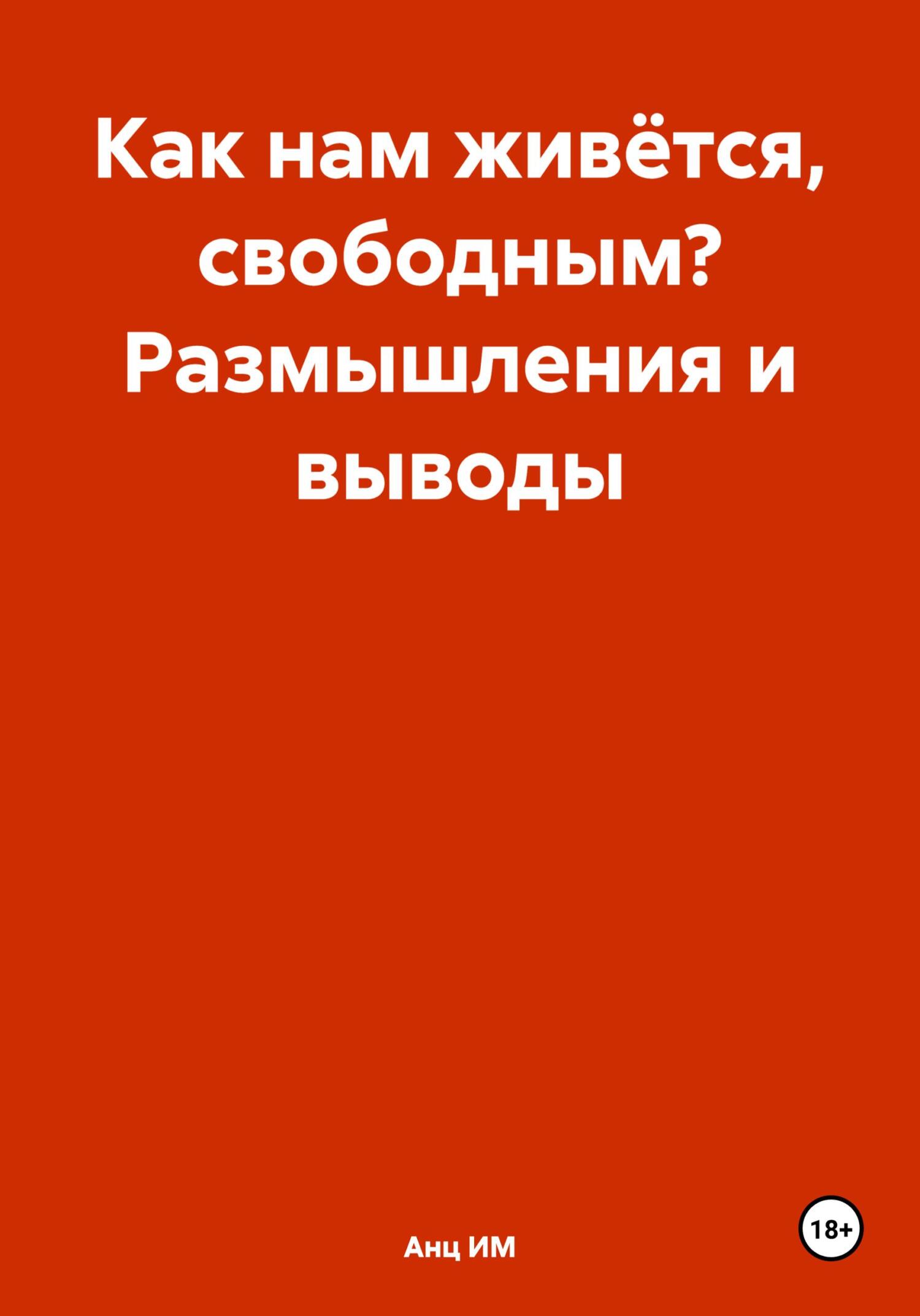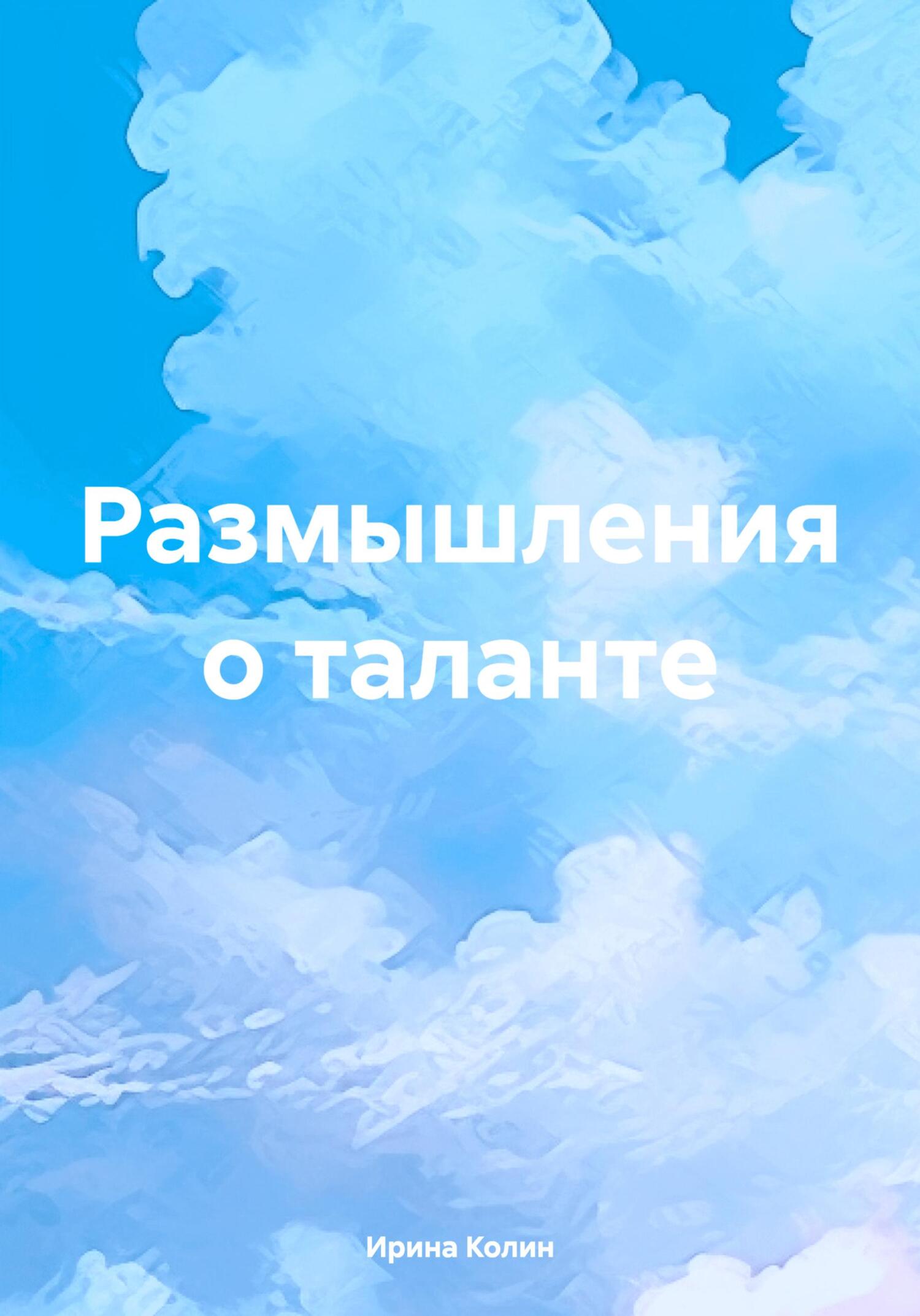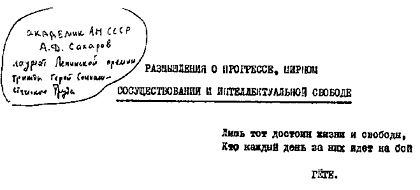безупречной «нравственности», а затем брали их себе в любовницы по мере надобности. В таких красках шло измельчение кодекса чести по всему полю феодального естественного права.
Откуда и почему появлялись симптомы вырождения феодальной общественной формации, в развитие которой внесли немалый вклад западноевропейские рыцари, — об этом достаточно ярко и убедительно поведал Александр Герцен. Он писал:
…когда… новый мир начал слагаться, принимая в себя… остатки древней цивилизации и новую религию, развивая ими свою собственную сущность, тогда первым полным и органическим следствием взаимного проникновения этих элементов является рыцарство. Рыцарством вооружённая ватага кондотьеров, наездников, необузданных воинов поднялась из мира грабежей и насилия в феодальное благоустройство. Ключом свода этого готического братства, этих… единственных правоверных людей того времени, была беспредельная самоуверенность в достоинстве своей личности и личности ближнего, разумеется, признанного равным по феодальным понятиям. Это было нечто совершенно новое.
…
…рыцарь начал понимать себя собственным средоточием; понявши это, он должен был высоко поставить свою честь, свою самобытность — гордую и независимую. Не массы сознали эту мысль о достоинстве личности: массы были… отсталые… её поняли доблестнейшие… духовные.
…
…Мы привыкли сопрягать с словом «рыцарство» понятие угнетения, несправедливости, касты; но с тем самым словом мы вправе сопрягать смысл совершенно противоположный. Мы теперь смотрим на рыцарство как на прошедший институт; его слабые стороны для нас раскрыты; нас оскорбляет его гордое чувство бесконечного достоинства, основанное на бесконечном унижении привязанного к земле…
…
…оцените внутреннюю мысль его о достоинстве человеческой личности, о святой неприкосновенности её, о строгой чистоте — и вы поймёте великое начало, внесённое им в историю. Оттого мы рыцарей можем принять за высших представителей средних веков; истинные представители эпохи — не арифметическое большинство, не золотая посредственность, а те, которые достигли полного развития, энергические и сильные деятельностью; другие были в ребячестве или в дряхлости. Человек научился уважать человека в рыцаре; этого мы им не забудем. Гордое требование признания рыцарских прав было почвою, на которой выросло сознание права и достоинства человека вообще. …Рыцари были единственные свободные люди в средних веках… их соединяло единство обычаев, единство понятий о своём достоинстве, единство предрассудков…
…
Но…
Ничего не может быть пагубнее для истории, как вносить современные вопросы симпатий и антипатий в разбор былых событий…
…
…Мало сознавать достоинство своей личности: надобно, сверх того, понимать, что с утратою его бытие становится ничтожно; надобно быть готовым испустить дух за свою истину — тогда её уважат…
…
…как ни было сильно развитие рыцарства, как оно ни было ярко и поэтично, оно носило в себе причину быстрой дряхлости…
…
…Рыцарь… признавал самоуправство естественным, неотъемлемым правом.
…
…Рыцарь, свободная личность в отношении к государству и раб внутри, развил односторонность свою до нелепости…
…
…не имея действительного критериума чести, он весь зависел от обычая и мнения; он, вместо живого и широкого понятия человеческого достоинства, разработал жалкую и мелочную казуистику оскорблений и поединков. Рыцарство пало жертвою своей односторонности… жертвою противоречия, только формально примирённого в его уме. Но наследие, им завещанное, было велико…
(«Несколько замечаний об историческом развитии чести». — Извлечения из работы приведены в сокращениях).
Отдавая должное умению автора приблизить давнее к его современности (к XIX веку), нельзя, однако, не заметить, что старание изменяло ему.
«Не массы сознали… мысль о достоинстве личности…» Или: «Гордое требование признания рыцарских прав было почвою, на которой выросло сознание права и достоинства человека вообще». Так мог утверждать только историк, усвоивший прошлое с удобного для него начала, то есть — как своеобразную схему, куда втискиваются отдельные явления и события.
Ведь именно в массах, в человечестве зрело и формировалось представление о достоинстве. Стало быть, и о чести, и о других составляющих всеобщей этики. Где уконцентрирован опыт различения качества любых действий и помышлений всех и каждого индивидуума. Хранимый всеми и каждым и неизменно передаваемый в поколениях.
Первым да и последующим рыцарям было естественно равняться на эти ценности, по-новому осознавая только процесс приобщения к ним — к тому, что по разным причинам утрачивалось. Бесспорно, многое тут смещалось. Опыт прошлого виделся слишком тусклым, и будто бы требовалось его оставить, пренебречь им. Но — без него рыцари никуда бы не двинулись…
В целом их идеализация могла приводить к тому, что становилось карикатурой или обратной стороной их действительного «статусного» положения. В качестве примера, когда настоящий облик рыцарства выражался во всём его неприемлемом виде, сошлёмся на широко известную повесть Николая Гоголя «Тарас Бульба».
Талантливый писатель, ввиду его неумеренного русофильского патриотизма, рисует Запорожскую Сечь — объединение казаков — как средоточие высшей национальной правды и справедливости. Этому соответствует и характер одиозного старшины — главаря вольного казачества и само это сообщество, каждый член в нём.
На рыцарские ордена́, какие возникали в западной Европе, оно, казачество Запорожья, не походило тем, что было неоднородным: к нему примыкали представители самых разных сословий, а рыцари и монахи если в нём и оказывались, то в виде очень редкого исключения. Гоголь, по крайней мере, об этом не сообщает. Однако сам старшина, полковник Бульба и подчинённые ему казаки едва ли не на каждом шагу, как то заметно по тексту повествования, норовили изображать из себя рыцарей и называть себя этим хорошо ими усвоенным словом, а казачество в целом — «рыцарством».
Его звучание приобретало особенную степень восторженности и умиления в речах и умах каждого в войске по причине того, что Запорожской Сечью исповедовался принцип безграничного и безотчётного услужения Руси и православию в ней, принципа, который избирался ею добровольно и не был скреплён строгим договором ни с какими государствами, в том числе — с Русским. Соответствовали тому и всяческие движения по возвеличиванию казачьего долга и якобы образцового русского духа в нём.
Фрагменты произведения, при их внимательном и беспристрастном рассмотрении, вовсе не подтверждают образцовость этого духа, а прямо взывают к тому, чтобы в таком виде его вообще нигде и никогда не было даже в помине.
Трудно не перейти на столь радикальную точку зрения, знакомясь, например, с повадками запорожцев, неожиданно устроивших совершенно ни на чём не обоснованную кровавую резню евреев (или, по терминологии казачества, запечатлённой автором повести, да и — его самого, — жидов), проживавших в предместьях Сечи и торговавших в ней съестными товарами, оружием и выпивкой.
Как сообщает писатель, их, бедолаг, любого, кто попадал под руку взъярившимся «рыцарям» и не успевал спрятаться, убивали на берегу Днепра, бросали в его воды и топили, то же делали с разысканными, прятавшимися, при