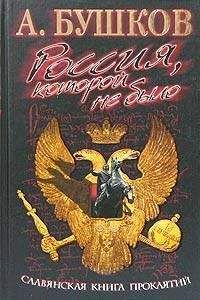— По-моему, она гораздо моложе, — сказал Мазур.
— Ага. Лет на двадцать.
— Там не было никаких роковых легенд? Красавец-приказчик, Ванька-ключник, злой разлучник?
— Да нет, не припомню что-то… Ну, а это, как, может быть, догадываетесь, «Вера»…
— Ага, вот она какая… — сказал Мазур с неподдельным интересом. — Это к ней мне, значит, спускаться…
— Не страшно? — спросила Катя искренне.
Мазур повернулся к ней, легонько взял за плечи и спросил:
— Можно, будем на «ты»?
Она кивнула, глядя снизу вверх уже совсем беззащитно.
Мазуру во многих экзотических местах доводилось принимать спиртное, но в закрытом на ночь музее он оказался впервые. Первые рюмки прошли легко, под обычную болтовню и случаи из Мазуровой жизни — в общем, невыдуманные, только старательно отфильтрованные от всего, что могло навести на мысль о славных вооруженных силах. Они сидели в крохотном Катином кабинетике, ярко освещенном посреди темного музея, Мазур искренне расслабился, наконец-то отыскав тихий и безопасный уголок посреди здешних, наполовину непонятных сложностей. Все было ясно на пять ходов вперед, Катины глаза наглядно о том свидетельствовали. Мазур готов был напрочь оттаять душой, но первое время мучился глупейшим комплексом — казалось, где-то рядом неустанно вращается катушка с пленкой, вертится, сука, вертится…
— У тебя тут привидения не бродят? — спросил Мазур. — Дорофеев, скажем…
— Накаркаешь… — засмеялась Катя. — Зачем ему тут бродить, он же в море утонул…
— А почему, кстати?
— Неизвестно, — пожала она плечами. — Совершенно темная история, говорят, до войны были какие-то документы, потом пропали…
— Тс! — театральным шепотом сказал Мазур, подняв палец. — Это не половицы скрипят?
— Это на улице пьяные домой топают… Хочешь, покажу, как раньше жили? До революции?
— Конечно, — сказал он.
— Пошли.
— А это все берем?
Она чуточку подумала, бесшабашно махнула рукой:
— Берем!
Мазур пошел следом, прихватив бутылку и все прочее. Катя привычно протянула руку, нащупала в темноте выключатель.
— Впечатляет… — сказал Мазур.
Они стояли на пятачке, огороженном с трех сторон красными плюшевыми шнурами на подставках — а вокруг была довольно большая комната, перенесшая лет на девяносто назад не хуже машины времени. Обширный диван и кресла, обитые темно-красным плюшем, старинный стол с витыми ножками, на нем уйма всякой всячины — подсвечник с пятью свечами, письменный прибор, ваза. Картины, буфет, ширма с китайскими драконами, масса безделушек…
— Все подлинное, даже люстра, — похвасталась Катя. — Только медвежья шкура современная… И свечи.
— А туда можно? — спросил он заговорщицким шепотом.
— А давай!
Катя сняла шнур, и они оказались в прошлом.
— А ежели так… — сказал Мазур. — Свечи я потом новые куплю…
Он погасил люстру, зажигалкой поджег свечные фитильки. Комната сразу стала загадочно-полутемной. Поставил на стол бутылку, рюмки, конфеты. Подсел вплотную к Кате на диван, оказавшийся ничуть не пыльным, видимо, недавно пропылесосили — притянул ее к себе и шепнул:
— Теперь сосредоточься и представляй: сейчас откроем окно — а там девятьсот десятый год, и никакой тебе действительности, одни купцы с городовыми, сплошные дамы и господа, радио уже есть, а телевизора еще нет, и слава богу…
— Ох, ну что же мне-то тогда делать? В девятьсот десятом году?
— Как это — что? Очаровывать и околдовывать…
Она завозилась, пытаясь высвободиться, фыркнула, рассмеялась.
— Что?
— Хочешь страшную правду? — В окутанном зыбкими тенями полумраке ее лицо было таинственно-незнакомым. — Не знаю, где раздобыли всю остальную мебель, но вот этот самый диван и кресла — из здешнего публичного дома, сиречь борделя…
— Иди ты! — страшным шепотом восхитился Мазур.
— Точно. Листала я кое-какие документики… Шикарный был бордель, для купцов, иностранных капитанов и прочей чистой публики. А знаешь, как спасли эти мебеля? Знаменитый наш Кузьма Кафтанов в этом самом борделе, будучи вьюношей, побывал не единожды. Не такой уж он был пролетарий, мсье Кафтанов, — отец промышлял моржовой костью на здешних островах, зарабатывал весьма приличные по тем временам деньги. Дом под железной крышей поставил… Вот только по бумагам, согласно тогдашним правилам, так и числился крестьянином, что Кузьме в будущем анкету ничуть не припачкало, наоборот, украсило. Хотя какие здесь крестьяне? Смех один. В общем, Кузьма, когда стал чиновной шишкой, откопал где-то этот гостиный гарнитур и поставил сначала у себя в горсовете. Молва гласит, укладывал на этот самый диван ударниц-комсомолочек со страшной силой… — Она, пискнув, шлепнула Мазура по руке. — Не надо, я тебе лекцию по истории читаю, а ты сплошь практически понимаешь… Потом, в пятидесятые, когда Кузьму сняли за стойкие просталинские настроения, гарнитур и упрятали в музей с глаз подальше…
— А в чем просталинские настроения выражались-то?
— Заявил спьяну в пятьдесят восьмом, что кукурузы здесь вырастет ровно столько, сколько у Никиты на жопе. А заявил сие на партактиве…
— Понятно, — сказал Мазур, легонько ее приобнимая и отпора на сей раз не получив. — Значит, зело исторические мебели… Интересно, что на них в старые времена происходило?
— Ну, на них-то в старые времена ничего не происходило — они ж в гостиной стояли…
Огоньки свечей играли в ее глазах грешными отсветами.
Мазур осторожно снял с нее очки, отложил на столик. Катя не шевельнулась, только тихонько, глубоко вздохнула, и потом, когда Мазур осторожно опускал ее на диван, не сопротивлялась ничуть. Пуговицы расстегивались беззвучно. Катя закрыла глаза, под вишневой блузкой, сливавшейся в полумраке с обивкой дивана, ничего больше не оказалось. Трепещущее пламя слегка затрещало, колыхнувшись, за окнами стояла непроглядная темень, и Мазур, осторожно входя в покорно распростершуюся женщину, подавшуюся ему навстречу с тихим стоном, ощутил жутковатое, пугающе-дразнящее чувство — вокруг, вдруг привиделось, и в самом деле прошлое, а двадцатый век едва-едва набирает разгон — медленно, тяжело, беспечно… Старинный диван оказался чертовски прочным, сработанным на века, нисколечко не скрипел, и они не сдерживались в яростном колыхании. Мазур успел заполошно подумать, что оставаться тут на ночь никак нельзя, непременно следует увести ее домой согласно инструкциям — тот ведь домой к ней и явится. Но до трех ночи уйма времени, пошло оно все к черту…
* * *
…Зря беспокоился, в общем. Где-то к полуночи, когда старинный диван навидался всякого и наваждение схлынуло, уступив место некоторой усталости, решено было покинуть эти гостеприимные стены. Мазур тщательно привел в порядок «гостиную», и они вышли в ночную темень, чуточку хмельные, расслабленные и довольные. Катя веселилась, заявляя, что виной всему и есть диван с его разгульным прошлым — иначе она ни за что не стала бы вытворять кое-что из того, что вытворяла. Мазур, легонько ее обнимая за плечи, больше отмалчивался, ухитряясь незаметно для спутницы оглядываться. Темень стояла непроглядная, луны не было, а звезды помогали мало — к тому же уличные фонари явно считались здесь совершенно излишней роскошью.
Но до ее дома добрались без приключений. Пару раз попадались табунки молодежи, однако к ним не вязались. И все же Мазуру упорно казалось, что следом, в отдалении, кто-то тащится. Пожалев, что не взял фонарик, он переправил кортик в ножнах из внутреннего кармана за ремень джинсов и готов был к неожиданностям. Обошлось. Едва переступив порог, как-то незаметно оказались в постели. Конечно же, Мазур вдоволь наслушался извечных женских глупостей — что она, вообще-то, не такая, но и не железная, что здесь невыносимо тоскливо, и в отрезанном от мира городишке всех мало-мальски подходящих мужиков можно пересчитать по пальцам, да и те, как водится, все разобраны, вот и случается порой такое, что потом, кажется, год не отмоешься. Мазур поинтересовался, относится ли он к последней категории, и получил искренний ответ, что нет. Постарался утешить, как мог — что ничего такого он не думает и прекрасно все понимает. Это была чистая правда.
Потом пришлось выслушать нехитрую исповедь — закончила институт в Шантарске в те времена, когда еще была в ходу такая непонятная нынешней молодежи штука, как распределение, вот и распределили сюда. Довольно быстро завелся муж, интеллигент, конечно, гитарист, бард и весельчак. Ну, а вскоре понеслись реформы — непонятные и буйные, как взбесившаяся птица-тройка, столь же неуправляемые и пугающие. Прежний уклад с грохотом обвалился в тартарары, старое разломали, а нового не построили, весельчак муж, чью ученую контору прикрыли, быстро поскучнел и озлился, особенно после того, как все его попытки поставить бардовский талант на службу победившей демократии оказались тщетными, — здесь, за Полярным кругом, победившая демократия вообще отчего-то не нуждалась в бардах, что недвусмысленно и дала понять. Гитарист принялся лечить кручину водкой и вовсе уж случайными бабами — а поскольку детей не было, развестись удалось легко, после чего бывший муж в поисках лучшей доли затерялся на материке, а квартиру оставил ей не столько из душевного благородства, сколько потому, что квартиры тут стоили дешевле дешевого, не было смысла размениваться и продавать свою часть.