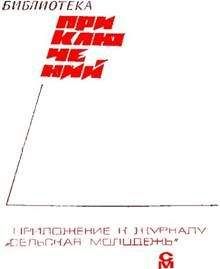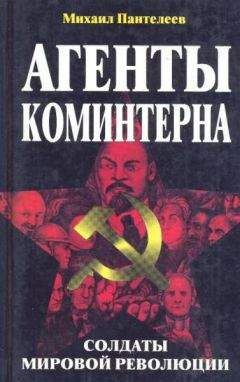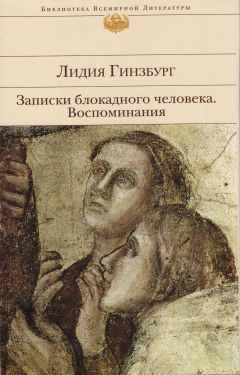Поэтому рекомендуется всем командирам находящихся в Таганроге подразделений, особенно начальникам госпиталей и санаториев, всячески поощрять посещение театров путем вербовки зрителей или надлежащих указаний на этот счет. Чтобы привести в соответствие службу дежурных на постах и связистов с посещением ими театра, начало представлений в театрах с 28.8 переносится на 17 часов пополудни. Представления будут длиться два часа.
Кроме того, солдатам разрешается приводить с собой в театр гражданских лиц.
По поручению — Ф. Бюллов, полковник.
В Таганроге живет сейчас бывшая певица Лариса Георгиевна Сахарова (так ее назовем), которая в годах 1939–1940-м выступала на сочинских эстрадных подмостках, в 1941-м приехала домой, в Таганрог, «попала под оккупацию» и работала в театре при немцах. Я о ней собираюсь рассказать, хотя речь здесь пойдет не о героине-подпольщице и не о предательнице, а о судьбе некоей «певички», настолько заурядной, что, казалось бы, и рассказывать-то не о чем. Ну, пела немецким офицерам, ну, видела всякие безобразия, ну, голод был, и деваться было некуда: всех неработающих отправляли в Германию, а на бирже труда сказали, что требуются актеры в театр, — она и пошла с двумя трубачами, их всех троих зачислили, и она пела.
Жизнь коротка, искусство вечно — фашисты тоже не могли обойтись без искусства. Это — естественная человеческая потребность в зрелище, в том, чтобы вечером, после дня тяжелых трудов, переодеться, опрыскать себя одеколоном и прийти в театр, где огни, красный берхат кресел, а на сцене…
Вот тем, что происходило на сцене, меня поначалу и заинтересовала Лариса Георгиевна, потому что я о фашистской «теории искусства» много читал, на этот счет существует обширная литература, и на самом деле важно понять, в чем состоит так называемый «яд фашизма», проникший в искусство.
Меня, признаюсь, всегда удивляло одно обстоятельство. Эти мерзавцы, которые готовили себя для убийств и для которых убийство было главным занятием, главным удовольствием и содержанием всей их жизни, требовали от искусства какой-то нечеловеческой благопристойности. Казалось, их глазу милее всего должны быть кровавые фантасмагории, кошмары, нагромождение трупов, искаженные от боли и сладострастия лица — так нет же. В живописи, например, почитались скучнейшие пейзажи с изображением немецких лесов, гор, зеленых полей, по которым бродят откормленные стада и где «возделывают почву» трудолюбивые крестьяне. Были грандиозные статуи и портреты «немецких мужчин» — обнаженных мускулистых красавцев (лишенных, впрочем, признаков пола) или одетых в мундир, «немецких женщин» — златокосых, задумчивых, но целеустремленных и уверенно глядящих «вдаль». Был Гитлер — в бронзе, в мраморе, в гипсе, Гитлер, написанный маслом и нарисованный углем, но не тот исступленный фанатик, который возбуждал толпы на митингах и «партайтагах» при свете факелов, а благопристойный, хорошо выбритый и причесанный господин в галстуке, с аккуратным пробором. Особенно тщательно выписывали галстук, вплоть до каждой волосинки — усы, и старались сделать пробор как можно ровнее, и пуговицы на кителе были как настоящие.
Я сперва не мог понять: какую, с точки зрения фашистов, «воспитательную роль» могла играть такая живопись? Ведь им нужно было взвинчивать людям нервы, подхлестывать воображение. Неврастеники, мистики, жизнь которых проходила в сплошной истерии, крайние декаденты в политике, которые руководствовались своей больной, воспаленной фантазией даже в государственных и внешнеполитических делах, устроители фантастических пыток, они должны были бы и в искусстве любить дисгармонию, нарушение пропорций, мистическую экзальтацию. Но они яростно боролись с «отклонениями от нормы», они только и делали, что кричали о «здоровом» искусстве, «полнокровном», «трезвом». Геббельс, например, приказал однажды прочесать все немецкие музеи и выявить хранящиеся в запасниках прлотна «враждебных» художников. 730 полотен были извлечены из подвалов и выставлены на «всенародное» обозрение, снабженные такого рода надписями: «Так слабоумные психи видят природу», «Немецкая крестьянка глазами еврейчика». Приходили лавочники, унтер-офицеры, чиновники со своими женами — покатывались со смеху. После этого картины сожгли.[7]
И в литературе было то же самое, и в театре, и в музыке. Здесь тоже все время кого-то выкорчевывали, громили, выжигали, обвиняли в безнравственности, в извращенной сексуальности, в растлении человеческой психики и морали. Это шла речь о крупнейших, признанных во всем мире писателях, драматургах и композиторах. Классиков, за небольшими исключениями, предлагали выбросить на свалку, как «либеральный хлам». Знаменитое сожжение книг 10 мая 1933 года проводилось под лозунгом — «Борьба за нравственность, дисциплину, за благородство человеческой души и уважение к нашему прошлому».
Сам по себе талант считался чем-то нежелательным, опасным, почти преступным. И это тоже — на первый взгляд — странно, потому что всякое, пусть и фашистское, государство, казалось бы, нуждается в определенном минимуме людей талантливых и мыслящих. Однако гитлеровское государство предпочитало иметь дело с бездарностями, с дилетантами, — даже симпатизировавший одно время нацистским идеям известный поэт Готфрид Бенн в своем отчаянном письме, адресованном берлинскому фельетонисту Франку Марауну, вынужден был признать, что в официальном искусстве царят «наглость и примитивность». Он писал: «Премии дилетантам, исключительно одним дилетантам, поощрение эпигонов, громкие слова в честь бездарностей, которыми прикрывается бессилие… вот в чем их сила».
И это действительно была «их сила» — сила тупости и человеконенавистничества, потому что в возвеличивании бездарностей, в насаждении всей этой «благопристойной» скуки был свой резон и своя цель: умертвить мысль, живое чувство, лишить человека радости; было садистское желание давить человека, довести его до такого отупения, чтобы он превратился в бездумный, нерассуждающий автомат.
На такое «искусство» они не жалели средств, осыпали деньгами, увенчивали титулами — «профессор», «культур-сенатор», «государственный артист» — ничтожеств, которых в других, мало-мальски нормальных, условиях к храму искусств близко бы не подпустили. Они даже создали специальный комитет «поощрения не признанных прежде поэтов, писателей и артистов». Каждый, кто осмеливался высказать слово хотя бы чисто профессиональной критики, подвергался оскорблениям, травле и легко мог оказаться в концентрационном лагере. В Нюрнберге полиция схватила двух журналистов, которые неодобрительно высказались о варьете, состоявшем под покровительством Юлиуса Штрейхера. Журналистов доставили в варьете, загримировали и приказали петь и плясать вместо раскритикованных ими актеров. Естественно, что они «провалились» и публика «с позором» прогнала их со сцены. Этот случай был позднее использован Геббельсом, который объявил критику «грязной еврейской затеей» и выпустил специальный приказ, согласно которому «каждый критик должен быть готов в любую минуту и по первому требованию заместить тех, кого он критикует; в противном случае критика теряет свой смысл — она становится наглой, самонадеянной и тормозит развитие культуры».
Зато сами они «критиковали» вовсю, у них был свой штат «критиков» — от гестаповских следователей до геббельсовских и розенберговских пропагандистов, которые мордовали немецких интеллигентов: одних загоняли в тюрьмы, других изгоняли из страны, третьих лишали возможности работать. И непременным аргументом в таких случаях было словцо «антинемецкий». Они клялись немецким народом на каждом шагу и шельмовали писателей, художников и ученых… Выходило, что не Томас Манн, не Генрих Манн, не Ремарк, не Фейхтвангер, не поэты рабочего класса Германии — Брехт, Бехер, Вайнерт, — а Розенберг с Геббельсом знали, чем живет и чего хочет немецкий народ. Но если бы кто-нибудь попробовал в гитлеровской Германии рассказать правду о том, как живет народ, или проявил хотя бы более или менее глубокий интерес к народной жизни, его бы немедленно отправили «изучать» жизнь и смерть туда, где в те времена находились лучшие представители немецкого народа.
А вообще иногда трудно было понять, чего им нужно от культуры: установки поступали самые неожиданные, исключающие друг друга. В «культурной политике», как и во всем, проявились разнузданная прихоть и произвол нацистских властителей. Кроме того, «культура» была подходящей областью для интриг, взаимных подсиживаний, сведения счетов между двумя могущественными соперниками — министром пропаганды Геббельсом и «партийным идеологом» Розенбергом.