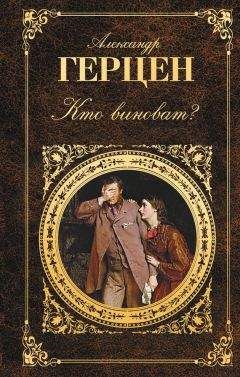же, – ответил за него Крюков, – Р<едкин> верит in die Persönlichkeit des absoluten Geistes [50] и потому завешивает окно, чтоб ему не было видно, куда целить, если вздумает в него пустить стрелу.
Но можно было догадаться, что на шутках такое существенное различие в воззрениях долго не остановится.
На одном листе записной книжки того времени, с видимой arrière-pensée [51], помечена следующая сентенция: «Личные отношения много вредят прямоте мнений. Уважая прекрасные качества лиц, мы жертвуем для них резкостью мнений. Много надобно сил, чтобы плакать и все-таки уметь подписать приговор Камилла Демулена».
В этой зависти к силе Робеспьера уже дремали зачатки злых споров 1846 года.
Вопросы, до которых мы коснулись, не были случайны; их, как суженого, нельзя было на коне объехать. Это те гранитные камни преткновения на дороге знания, которые во все времена были одни и те же, пугали людей и манили к себе. И так как либерализм, последовательно проведенный, непременно поставит человека лицом к лицу с социальным вопросом, так наука, если только человек вверится ей без якоря, непременно прибьет его своими волнами к седым утесам, о которые бились – от семи греческих мудрецов до Канта и Гегеля – все дерзавшие думать. Вместо простых объяснений, почти все пытались их обогнуть и только покрывали их новыми слоями символов и аллегорий; оттого-то и теперь они стоят так же грозно, а пловцы боятся ехать прямо и убедиться, что это вовсе не скалы, а один туман, фантастически освещенный.
Шаг этот не легок, но я верил и в силы и в волю наших друзей, им же не вновь приходилось искать фарватера, как Белинскому и мне. Долго бились мы с ним в беличьем колесе диалектических повторений и выпрыгнули наконец из него на свой страх. У них был наш пример перед глазами и Фейербах в руках. Долго не верил я, но наконец убедился, что если друзья наши не делят образа доказательств Р<едкина>, то в сущности все же они с ним согласнее, чем со мной, и что при всей независимости их мысли еще есть истины, которые их пугают. Кроме Белинского, я расходился со всеми: с Грановскими Е. К<оршем>.
Открытие это исполнило меня глубокой печалью; порог, за который они запнулись, однажды приведенный к слову, не мог больше подразумеваться. Споры вышли из внутренней необходимости снова прийти к одному уровню; для этого надобно было, так сказать, окликнуться, чтоб узнать, кто где.
Прежде чем мы сами привели в ясность наш теоретический раздор, его заметило новое поколение, которое стояло несравненно ближе к моему воззрению. Молодежь не только в университете и лицее сильно читала мои статьи о «Дилетантизме в науке» и «Письма об изучении природы», но и в духовных учебных заведениях. О последнем я узнал от графа С. Строгонова, которому жаловался на это Филарет, грозивший принять душеоборонительные меры против такой вредоносной яствы.
Около того же времени я иначе узнал об их успехе между семинаристами. Случай этот мне так дорог, что я не могу не рассказать его.
Сын одного знакомого подмосковенного священника, молодой человек лет семнадцати, приходил несколько раз ко мне за «Отечественными записками». Застенчивый, он почти ничего не говорил, краснел, мешался и торопился скорее уйти. Умное и открытое лицо его сильно говорило в его пользу; я переломил, наконец, его отроческую неуверенность в себя и стал с ним говорить об «Отечественных записках». Он очень внимательно и дельно читал в них именно философские статьи. Он сообщил мне, как жадно в высшем курсе семинарии учащиеся читали мое историческое изложение систем и как оно их удивило после философии по Бурмейстеру и Вольфию.
Молодой человек стал иногда приходить ко мне, я имел полное время убедиться в силе его способностей и в способности труда.
– Что вы намерены делать после курса? – спросил я его раз.
– Постричься в священники, – отвечал он, краснея.
– Думали ли вы серьезно об участи, которая вас ожидает, если вы пойдете в духовное звание?
– Мне нет выбора: мой отец решительно не хочет, чтоб я шел в светское звание. Для занятий у меня досуга будет довольно.
– Вы не сердитесь на меня, – возразил я, – но мне невозможно не сказать вам откровенно моего мнения. Ваш разговор, ваш образ мыслей, который вы нисколько не скрывали, и то сочувствие, которое вы имеете к моим трудам, – все это и, сверх того, искренное участие в вашей судьбе дают мне, вместе с моими летами, некоторые права. Подумайте сто раз прежде, чем вы наденете рясу. Снять ее будет гораздо труднее, а может, вам в ней будет тяжело дышать. Я вам сделаю один очень простой вопрос: скажите мне, есть ли у вас в душе вера хоть в один догмат богословия, которому вас учат?
Молодой человек, потупя глаза и помолчав, сказал:
– Перед вами лгать не стану – нет!
– Я это знал. Подумайте же теперь о вашей будущей судьбе. Вы должны будете всякий день, во всю вашу жизнь, всенародно, громко лгать, изменять истине; ведь это-то и есть грех против Святого Духа, грех сознательный, обдуманный. Станет ли вас на то, чтоб сладить с таким раздвоением? Все ваше общественное положение будет неправдой. Какими глазами вы встретите взгляд усердно молящегося, как будете утешать умирающего раем и бессмертием, как отпускать грехи? А еще тут вас заставят убеждать раскольников, судить их!
– Это ужасно! ужасно! – сказал молодой человек и ушел взволнованный и расстроенный.
На другой день вечером он возвратился.
– Я к вам пришел затем, – сказал он, – чтоб сказать, что я очень много думал о ваших словах. Вы совершенно правы: духовное звание мне невозможно, и, будьте уверены, я скорее пойду в солдаты, чем позволю себя постричь в священники.
Я горячо пожал ему руку и обещал с своей стороны, когда время придет, уговорить, насколько могу, его отца.
Вот и я на свой пай спас душу живу, по крайней мере способствовал к ее спасению.
Философское направление студентов я мог видеть ближе. Весь курс 1845 года ходил я на лекции сравнительной анатомии. В аудитории и в анатомическом театре я познакомился с новым поколением юношей.
Направление занимавшихся было совершенно реалистическое, т. е. положительно научное. Замечательно, что таково было направление почти всех царскосельских лицеистов. Лицей, выведенный подозрительным и мертвящим самовластием Николая из прекрасных садов своих, оставался еще тем же великим рассадником талантов; завещание Пушкина, благословение поэта, пережило грубые удары невежественной власти [52].
С радостью приветствовал я в лицеистах, бывших в Московском университете, новое, сильное поколение.
Вот эта-то