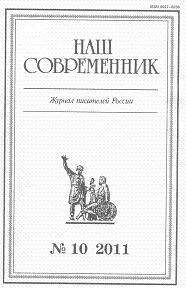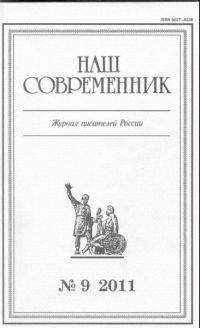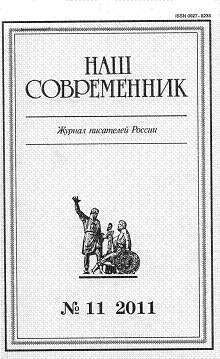Думал ли он в том разговоре о деньгах из масляной канистры? Почему они там оказались? Зачем Борис их прислал в багажном вагоне, хотя сам приехал на другой день? Откуда всё это? И при чем тут винтовка в тубусе для чертежей?
Пожалуй, это не совсем так: думал — не думал. Все это в нем давно сидело, было уже частью его, присутствовало каждую минуту, лишь на редкие мгновения покидая, забываясь. Вот и теперь он снова забылся, показывая Боре раскуроченное поле дурацкой битвы мотоциклистов с беззащитной землей. А тот стал выводы выводить, окунул снова во что-то тяжкое, опасное, взрослое.
Но не зря же говорят — устами младенца глаголет истина. Пусть только всего лишь вопрошает. И Глебка, для себя неожиданно, спросил:
— Зачем тебе столько денег? Откуда? Боря усмехнулся.
— Зачем? Чтобы жить. Откуда? Не дай тебе Бог узнать…
Май выдался счастливый: солнце пекло, тихие стояли дни, в школу тащиться страх как не хотелось, а Боря каждый день стал приходить и звать Глебку прогуляться. После уроков, конечно.
И все в ту сторону, к речке. Сначала по бережку болтались, но однажды Боря снял ботинки, задрал штаны и перебрался по колено в воде на другую сторону. Отстанет от него Глебка, что ли?
Вода была ледяная, все-таки еще май, обжигала, но как же хорошо потом шагалось по полевым, едва видимым тропкам.
Какая же это благодать — идти вот так по полю, ничего не нарушая, обходя гнезда, посмеиваясь полевым птахам, вслушиваясь в жужжание шмелей, вглядываясь в трепет бабочек, жмуря глаза от солнца и вдыхая в себя вольный безыскусный аромат полевых цветов! И эти ореховые заросли, березовые кущи — просто рай какой-то, мир, отчего-то покинувший людей, но сохранивший себя сам, может, до лучших времен, когда народ опять спохватится и поймет, наконец, что он теряет. И что найти сможет!
О чем они только не говорили в ту смиренную, терпкую, распаренную майскую неделю. И как говорили! Совершенно на равных.
Глебка, правда, чаще спрашивал и меньше утверждал, но ведь и у него были свои убеждения. Они, правда, требовали проверки — где же и с кем лучше, достойнее и, главное, спокойнее обсудить их, нежели с братом, который наконец-то никуда не бежит, не торопится, а просто лениво бредет, улыбается, озирается окрест, будто они снова дети и вернули себе ту счастливую волю.
Как-то, стараясь быть участливым, Глебка попробовал посочувствовать брату и что-то нехорошее спросил про тех, у кого он был в плену. Борик не удивился, но странно стал их защищать, сказав:
— Знаешь, как они друг о друге заботятся! Какой-нибудь троюродный внук о пятиюродном дедушке? И виделись-то раз в жизни, а почитают друг друга как близкие родичи. Если что случится, бегут и едут, лекарства везут, барана, деньги отдают! А как старших уважают! Мы уже этак-то разучились. Да и умели ли когда, сомневаюсь! Женщинам у них — это да — тяжело. Все заботы, все хозяйство на них. Но не ропщут. Помалкивают и работают без передыху, без жалоб и обид! Наших сторонятся, это да. Мы их считаем дикарями — может быть! Но у дикарей есть свои хорошие правила. Ну, а в нашем-то городе, погляди, как они дружно держатся!
Глеб впервые слышал такое оправдание южакам, да от кого! От Бори, который в подвале сидел, сбежал, а могли запросто убить.
— Могли они тебя убить? — так и спросил.
— Запросто.
— А ты о них так хорошо говоришь!
— Так это правда.
— Но как же ты… — начал было Глебка, желая понять такую братову снисходительность, а тот как-то негромко, устало даже, прервал его и проговорил:
— А я… Ты, наверное, не знаешь притчу про Христа и апостола его Петра, который ему в любви поклялся… И в верности. А Христос посмотрел на него и сказал ему: да ещё петухи не успеют пропеть, как ты меня трижды предашь. Так и вышло.
— Как это?
— Страх, — ответил Борик. — Жуткое это дело — страх, когда не словами тебя пугают, а голову в петлю суют, к примеру. Или к виску ствол приставляют…
Прошёл молча несколько шагов.
— Вот и я, как Пётр. И отныне навеки грешен…
Надолго растянулось молчание. С полверсты прошли, а Глебка всё мучительно думал, о чём это Борик сказал. Не справился с думами этими — слишком тяжкими получались.
Заговорили как бы нехотя, и уже о другом. Про толпу мужиков в кожаных одеждах и на мотоциклах.
— Эта мода к нам из-за океана приползла, — объяснял Борис. — Что говорить, какие там мотоциклы — просто мечта для тех, кто понимает! Эти чудища покруче будут, чем какие-нибудь навороченные джипы! Или, по крайней мере, вровень с ними! Да еще Голливуд их раскрутил! Вот и у нас свои байкеры появились. Ты не думай, это не отморозки какие, не шпана, у тех жила лопнет такую технику завести! Это богачи! Суперы! Топы всякие! Или детки ихние, не знают, чем себя занять.
Они и глубже заплывали:
— Слыхал такое слово "Бентли"? Сверхдорогая машина! Там-то богатые актеры на них катаются, в крайнем случае, знаменитости. А миллионеры, у них, между прочим, не выпендриваются, как наши, кто до шальных денег добрался. Богатство скрывать надо!
— Таись, скрывайся и молчи?
— Во-во! Тот, кто умен, бирюльки в носу не носит. Скромно одевается. Много не кричит. А у нас, мне кажется, нарочно по-дурацки все делают. И всю свою шелупонь тоже специально так воспитывают. Мол, гуляй, пока богатый да молодой. Ну так вот! "Бентли" — для одних… "Порше" — для других. Мотики для третьих. И никто из них — слышишь! — не пашет, не сеет, не жнет! Ну, а нам-то что? Им — все, нам — ничего? Несправед-ли-и-иво!
Глебка смеялся, как Боря это словечко растягивает. Был с ним солидарен. Еще как! Так или иначе подбирались к собственному существованию.
— А что с нами-то будет, Борик? — спрашивал Глебка, да и не раз. И не раз, но по-разному отвечал Боря. Шутя отвечал:
— Станем с тобой миллионщиками! Грабанем банчок какой. Уедем на Канары.
Глебка смеялся:
— Не банчок, а бачок! Сливной! В школьном туалете! Серьезно отвечал:
— Да на работу надо устроиться, а там, глядишь, повезет, подфартит, что-нибудь выпадет наудачу.
И совсем печально говорил:
— Не знаю, братишка! Ничего-то я не знаю! Будто повязали мне на глаза черную повязку! Все слышу, все понимаю. Ничего не вижу.
Для Глебки это был конец десятого класса, впереди — последний, с экзаменами и с окончательным выбором: куда дальше-то грести? Борик его слегка подутешил, мол, вспомни, что у тебя в поленнице, за это можно не только в платный институт поступить, но и диплом купить. Неважно, что тебе вроде мало лет — плати деньги, и ты в дамках! А уж ежели не пожи-дишься, то и диссертацию покупай, даже докторская, толкуют знающие, полсотни кусков в баксах. Да, цена хорошего автомобиля, но ведь машина-то износится, поржавеет, постареет, а этакая корочка на всю жизнь. Конечно, он пошучивал, подъелдыкивал, но ведь и правду толковал.
— Чего же, — удивлялся Глебка, — богатенькие-то не торопятся? Ведь всех своих чадушек, поди, могут запросто отоварить?
— Могут, — смеялся Борис, — и отоваривают, не боись. Только втихую, не так просто, это тебе не магазин, хотя и лавка. Такие дела лишь посвященные клепают. В тишине. В великой тайне.
— Чего же мы-то не посвященные? Потому что деревенские? Без блату? Без связей?
И выходило, что если по-честному, так Глебке и ходу нет. Не было у него никаких ни к чему страстей — ни к точным предметам, там везде трояки, ни к неточным — и там коли даже четвертаки, так натянутые, за счет речи и языка, которые были не шибко умны и вычурны, но зато бойки, особливо ежели надо спасаться.
Глебка знал — в истории там или литературе, коли слаб, забалабонить надо! Голос повысить. Вспомнить вообще все, что знаешь, и плести без ог-ляду — смотри-ка, и выпадет четвертинка вместо угрюмого трояка. Кураж тут и скорословие все же имеют свою власть, а может, усталая учительница заслушается этим торопливым словоблудством, задумается о чем-нибудь своем, упустив нить ученического повествования, потом опомянется, встряхнется — о чем это он? — да махнет рукой, э, живи, малый, мели, Емеля — твоя неделя. И правда, не раз вывозило Глебку это его если и не умение, то вроде как нахальство: главное — громко, уверенно, вперед!
И все же, думая о себе откровенно, знал Глебка, что нет у него, как и у многих других соседей по классу, ни к каким ученьям особого интереса — спасибо, родная школа…
Правда, интересы все же были. Первый — это, конечно, компьютер, интернет, вездесущая "мышь". Второй интерес — книжки. И это было благом для подросшего Глебки, потому что остальные-то миллионы, на диванах домашних, на стульях и прочих присестах беспривязно воспитывались однооким чудищем, которое глазом своим квадратным не только вглядывалось, сколько само себя разглядывать принуждало, предъявляя всякую чушь. И хоть цвет глаза этого считается голубым, на самом-то деле он мрачный, и хоть слово это вовсе не цвет обозначает, а состояние души, — именно этим состоянием и обесцвечивало чудище всех, кто в него вглядывался, уравнивая при этом между собой подряд тех, кто не имеет иммунной прививки — и способных, и умственно больных, и удаленьких, и неподвижных душою — всяких-всяких, почти всех.