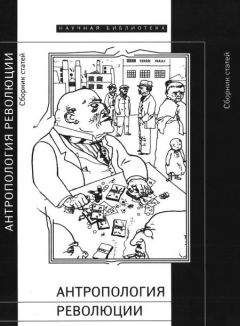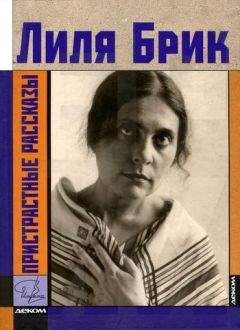Анализ ситуации в России привел Вебера к выводу, что социальные факторы могут лишить русских идеалистически настроенных либералов шансов на успех и поэтому на основе российской ситуации начала XX века не удастся создать какую бы то ни было оригинальную альтернативную модель политического развития. Однако сам текст его статьи показывает, что Вебер не был уверен в своих оценках социальной детерминации политики. Следуя за развитием русского либерального движения, Вебер считал, что воля и стремления, которые нашли воплощение в политическом идеализме, — это ключевой фактор политики в модерную эпоху:
…Для либерализма вопрос жизни — бороться с бюрократическим и якобинским централизмом и насаждать в массах старую индивидуалистическую идею «неотъемлемых прав человека», которые нам, западноевропейцам, кажутся чем-то вполне «тривиальным», как кусок хлеба тому, кто сыт. <…> …Хотя борьба за индивидуалистические жизненные ценности должна учитывать материальные условия и следовать по пятам за их изменениями, «реализация» этих ценностей никак не гарантирована экономическим развитием. Шансы на демократию и индивидуализм были бы невелики, если бы мы положились на «закономерное» действие материальных интересов. <…> В американском «благожелательном феодализме», в германских так называемых «институтах обеспечения благополучия» (Wohlfart), в русском фабричном уставе — везде выстраивается каркас будущих отношений крепостной зависимости[207].
Как показывают работы Вебера, он нашел в революционной России 1905 года четко сформулированные язык и программу либерализма. С самого начала своих «русских штудий» он считал, что опыт российского либерализма может быть использован для новаторского решения дилемм, характерных для Западной Европы эпохи модерна. Ему было очевидно, что российский либерализм перешел из состояния апатии к четко артикулированной политической позиции и что обретенный язык либеральной политики стал (и должен был стать, с точки зрения Вебера, анализировавшего судьбы не только российского, но и германского либерализма) относительно независимым фактором политического процесса в России.
Этот переход был вызван целым рядом факторов общей политической жизни: ситуацией поражения в русско-японской войне, провоцировавшей революцию политикой Николая II, растущим социальным движением рабочих и крестьян, политическим террором и усиливающейся деятельностью левых политических партий. Однако столь же важными были и внутренние факторы либерального оппозиционного движения. Внутреннее измерение заключалось в постепенной идеологизации позиции и языка либералов. Этот процесс происходил на страницах официального органа оппозиционного движения — издававшегося за границей (сначала в Штутгарте, потом в Париже) журнала «Освобождение» — и в различных интеллигентско-земских кругах, которые были заняты разработкой деклараций, проектов конституции и других текстов, способствовавших артикуляции либеральной программы.
Как показывают суждения Вебера о российском либерализме, и в частности его замечания об относительно больших достижениях российских либералов по сравнению с германскими, рассмотрение истории нового российского либерализма начала XX века будет неполным, если не обратиться к анализу общих проблем модерного общества — к условию постоянной изменчивости, к проблеме соотношения актора и структуры в современной политике, к исторически изменчивому и нормативному образу Запада.
Оправдание для использования термина «модерный», если учесть исторически развивающийся язык самоописания и программы российского либерализма, совершенно не обязательно находить в нынешних ожесточенных спорах относительно самого феномена модерности и его применимости к российской ситуации начала XX века[208]: этим термином пользовались сами участники политических дискуссий того времени. В частности, он встречается в текстах Петра Струве. Его идеологические разработки были необходимой частью проекта российского либерализма в том виде, в каком он сформировался до роспуска Второй думы. Первое использование термина можно зафиксировать в предисловии к публикации записки Сергея Витте «Самодержавие и земство»[209]. Публикация записки должна была пролить свет на дискуссии, шедшие в недрах правительства, и разоблачить далеко шедшие планы правительства по сворачиванию земского самоуправления. Основная мысль Струве, развитая в предисловии к этой публикации, заключалась в том, что новая политическая ситуация делает необходимым изменение критериев, по которым политическая оппозиция будет оценивать деятельность правительства. По мнению Струве, традиционные оценки правительства как реакционного или прогрессивного, в зависимости от того, продолжало или сворачивало правительство курс Великих реформ середины XIX века, в новой ситуации перестали работать:
Эта политика или, если более точно определить, эта политическая система, носителем которой является статс-секретарь Витте, имеет историческое значение в последовательном ходе нашего политического развития и заслуживает самого внимательного и вдумчивого к себе отношения со стороны всех серьезных политических деятелей. Эта система вовсе не тождественна ни с грубой реакционной казенщиной [Дмитрия] Толстого, выдумавшей дикий и технически несостоятельный институт земских начальников, ни с мистической казенщиной Победоносцева, лишенной всякой творческой энергии. Казенщина Витте вполне modern [в оригинале написано латиницей, курсив[210] мой. — А. С.] и рвется к делу[211].
Под «модерностью» политической системы Витте Струве понимает тот факт, что эта система является воплощением универсальных социологических и экономических законов развития общества и в то же время представляет собой специфическое воплощение этих законов в российской ситуации. Система Витте выросла из объективной необходимости капиталистического экономического развития. Она была основана на признании принципа экономической свободы, который, однако, совмещался с политикой государственного вмешательства в экономику для стимулирования экономического развития. Обсуждая специфическое положение России на шкале прогрессивного исторического времени, Струве отмечает, что, будь Витте государственным деятелем XVIII века или первой половины XIX, «он, может быть, явился бы представителем просвещенного абсолютизма»[212]. Однако система Витте основана на осознании прогрессивного исторического времени, которое предсказывает появление «галльского петуха Французской революции». Поэтому, поощряя экономическую свободу, Витте стремился заблокировать развитие политической.
Таким образом, Струве показывает, что универсальные законы развития общества могут специфически преломляться в конкретной исторической ситуации и тем самым требовать выработки особых политических рецептов, которые совмещали бы в себе универсальную и партикулярную картины исторического развития.
Конечно, само по себе употребление слова «modern» — лишь малая часть доказательства. Тем не менее за этим словом открывается значительный концептуальный сдвиг, который совершили российские либералы, предложив использовать в политике язык универсальных исторических законов и исторически сформированных особенностей развития России. Этот язык позволял использовать современное молодому Струве и его единомышленникам научное знание для обоснования либеральной альтернативы и одновременно обозначал пределы его использования. В зазоре между универсальными законами и локальными особенностями исторического развития, то есть в пространстве между позитивизмом и политическим романтизмом (народничеством), рождалась возможность политического творчества — поиска специфических, но не уникальных политических решений.
Мой дальнейший анализ рождения политического творчества из взаимодействия науки и политики, сопровождавшего создание либеральной альтернативы, основывается на реконструкции политических и интеллектуальных траекторий биографии Павла Милюкова.
Профессиональное становление Милюкова как историка происходило в стенах Московского университета под руководством Василия Ключевского и под влиянием Павла Виноградова[213]. Милюков сформулировал свою концепцию русской истории в магистерской диссертации «Очерки по истории русской культуры», которая предлагала новый, синтетический взгляд на историю. Милюков, как и Ключевский, выступал против «юридической» школы в русской историографии, обвиняя ее в невнимании к социально-экономическим факторам, но в то же время критиковал и школу Ключевского за недооценку роли идей в истории[214]. Собственный синтез российской истории Милюков основывал на социологическом методе, который был нужен для того, чтобы преодолеть идиосинкразии традиционной, нарративной историографии.