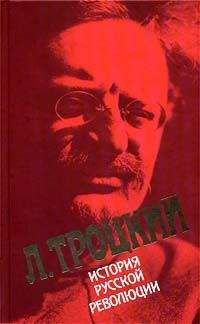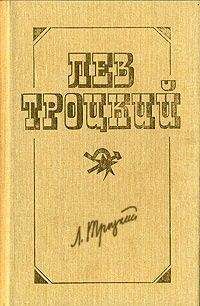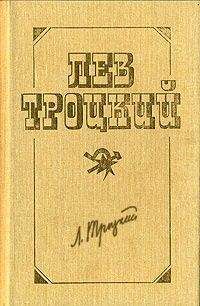Даже самодержавнейший из деспотов мало похож на «свободную» индивидуальность, по произволу налагающую печать на события. Он всегда является коронованным агентом привилегированных классов, формирующих общество по образу своему. Когда эти классы еще не исчерпали миссии, тогда и монархия крепка и уверена в себе. Тогда у нее в руках надежный аппарат власти и неограниченный выбор исполнителей, ибо наиболее даровитые люди еще не перешли во враждебный лагерь. Тогда монарх, лично или через посредство временщика, может стать носителем большой и прогрессивной исторической задачи. Другое дело, когда солнце старого общества окончательно склоняется к закату: привилегированные классы из организаторов национальной жизни превращаются в паразитарный нарост; утратив свои руководящие функции, они теряют сознание своей миссии и уверенность в своих силах; недовольство собою они превращают в недовольство монархией; династия изолируется; круг преданных ей до конца людей сокращается; уровень их снижается; опасности между тем растут; новые силы напирают; монархия теряет способность к какой бы то ни было творческой инициативе; она обороняется, отбивается, отступает, – ее действия приобретают автоматизм простейших рефлексов. От этой судьбы не ушла и полуазиатская деспотия Романовых.
Если взять агонизирующий царизм, так сказать, в вертикальном разрезе, то Николай – стержень клики, уходящей корнями в безнадежно осужденное прошлое. В горизонтальном разрезе исторической монархии Николай – последнее звено династической цепи. Его ближайшие предки, тоже входившие в свое время в семейно-сословно-бюрократические коллективы, только более обширные, испробовали разные меры и приемы управления, чтобы оградить старый социальный режим от надвигавшейся на него судьбы, и тем не менее завещали Николаю хаотическую империю, уже донашивавшую революцию в своем чреве. Если ему и оставался выбор, то только между разными путями гибели.
Либерализм мечтал о монархии британского образца. Но разве парламентаризм сложился на Темзе мирным эволюционным путем или явился плодом «свободной» предусмотрительности отдельного монарха? Нет, он отложился как итог борьбы, которая длилась века и в которой один из королей оставил на перекрестке свою голову.
Намеченное выше историко-психологическое сопоставление Романовых с Капетами можно, кстати, с полным успехом распространить на британскую королевскую чету эпохи первой революции. Карл I обнаруживал то же, в основном, сочетание черт, которыми мемуаристы и историки с большим или меньшим основанием наделяют Людовика XVI и Николая II. «Карл оставался пассивным, – пишет Монтегю, – уступал там, где не в состоянии был оказать сопротивление, хотя с неохотой, но прибегал к обману, и не приобрел ни популярности, ни доверия». «Он не был тупым человеком, – говорит другой историк о Карле Стюарте, – но у него не хватало твердости характера… Роль злого рока сыграла для него его жена, Генриетта Французская, сестра Людовика XIII, пропитанная идеями абсолютизма еще больше, чем Карл». Не будем детализировать характеристику этой третьей – в хронологическом порядке первой – королевской четы, раздавленной национальной революцией. Отметим лишь, что и в Англии ненависть сосредоточивалась прежде всего на королеве, как француженке и папистке, которой вменяли в вину шашни с Римом, тайные связи с мятежными ирландцами и происки при французском дворе.
Но Англия имела по крайней мере века в своем распоряжении. Она была пионером буржуазной цивилизации. Она не стояла под гнетом других наций, наоборот, все больше держала их под своим гнетом. Она эксплуатировала весь мир. Это смягчало внутренние противоречия, накопляло консерватизм, содействовало обилию и устойчивости жировых отложений в виде паразитарного слоя лендлордов, монархии, палаты лордов и государственной церкви. Благодаря исключительной исторической привилегированности развития буржуазной Англии, консерватизм в сочетании с эластичностью из учреждений перешел в нравы. Этим не перестали и сегодня еще восторгаться различные континентальные филистеры вроде русского профессора Милюкова или австро-марксиста Отто Бауэра. Но как раз теперь, когда Англия, теснимая во всем мире, проматывает последние ресурсы своей былой привилегированности, ее консерватизм теряет свою эластичность и, даже в лице лейбористов, превращается в оголтелую реакцию. Пред лицом индийской революции «социалист» Макдональд не находит иных методов, кроме тех, какие Николай II противопоставлял русской революции. Только слепец может не видеть, что Британия идет навстречу гигантским революционным потрясениям, в которых бесследно погибнут обломки ее консерватизма, ее мирового господства и ее нынешней государственной машины. Макдональд подготовляет эти потрясения ничуть не хуже, чем это делал в свое время Николай II, и никак не с меньшей слепотой. Тоже, как видим, недурная иллюстрация к вопросу о роли «свободной» личности в истории!
Но где же было России, с ее запоздалым развитием, в хвосте всех европейских наций, со скудным экономическим фундаментом под ногами, вырабатывать «эластический консерватизм» общественных форм, – очевидно специально для потребностей профессорского либерализма и его левой тени, реформистского социализма? Россия слишком долго отставала, – и когда мировой империализм взял ее в тиски, она оказалась вынуждена проходить свою политическую историю по очень сокращенному курсу. Если бы Николай пошел навстречу либерализму и сменил Штюрмера Милюковым, развитие событий отличалось бы несколько по форме, но не по существу. Ведь именно таким путем пошел на втором этапе революции Людовик, призвав к власти Жиронду: это не избавило от гильотины ни самого Людовика, ни, затем. Жиронду. Накопившиеся социальные противоречия должны были прорваться наружу и, прорвавшись, довести свою очистительную работу до конца. Перед напором народных масс, вынесших, наконец, на открытую арену свои невзгоды, бедствия, обиды, страсти, надежды, иллюзии и цели, верхушечные комбинации монархии с либерализмом имели эпизодическое значение и могли оказать влияние разве на порядок явлений, может быть, на число действий, но никак не на общее развитие драмы и еще менее на ее грозную развязку.
ПЯТЬ ДНЕЙ
23-27 февраля 1917
23 февраля было международным женским днем. Его предполагалось в социал-демократических кругах отметить в общем порядке: собраниями, речами, листками. Накануне никому в голову не приходило, что женский день может стать первым днем революции. Ни одна из организаций не призывала в этот день к стачкам. Более того, даже большевистская организация, притом наиболее боевая: комитет Выборгского района, сплошь рабочего, удерживала от стачек. Настроение масс, как свидетельствует Каюров, один из рабочих вожаков района, было очень напряженным, каждая стачка грозила превратиться в открытое столкновение. А так как комитет считал, что для боевых действий время не пришло: и партия недостаточно окрепла, и у рабочих мало связей с солдатами, то постановил не звать на забастовки, а готовиться к революционным выступлениям в неопределенном будущем. Такую линию проводил комитет накануне 23 февраля, и, казалось, все ее принимали. Но на другое утро, вопреки всяким директивам, забастовали текстильщицы нескольких фабрик и выслали к металлистам делегаток с призывом о поддержке стачки. «Скрепя сердце», пишет Каюров, пошли на это большевики, за которыми потянулись рабочие – меньшевики и эсеры. Но раз массовая стачка, то надо звать на улицу всех и самим стать во главе: такое решение провел Каюров, и Выборгскому комитету пришлось одобрить. «Мысль о выступлении давно уже зрела между рабочими, только в тот момент никто не предполагал, во что он выльется». Запомним это показание участника, очень важное для понимания механики событий.
Считалось заранее несомненным, что, в случае демонстрации, солдаты будут выведены из казарм на улицы, против рабочих. К чему это приведет? Время военное, власти шутить не склонньд. Но, с другой стороны, «запасной» солдат военного времени – это не старый солдат кадровой армии. Так ли уж он грозен? На эту тему в революционных кругах рассуждали хоть и много, но скорее отвлеченно, ибо никто, решительно никто – это можно на основании всех материалов утверждать категорически – не думал еще в то время, что день 23 февраля станет началом решительного наступления на абсолютизм. Речь шла о демонстрации с неопределенными, но во всяком случае ограниченными перспективами.
Факт, следовательно, таков, что Февральскую революцию начали снизу, преодолевая противодействие собственных революционных организаций, причем инициативу самовольно взяла на себя наиболее угнетенная и придавленная часть пролетариата – работницы-текстильщицы, среди них, надо думать, немало солдатских жен. Последним толчком послужили возросшие хлебные хвосты. Бастовало в этот день около 90 тысяч работниц и рабочих. Боевое настроение вылилось в демонстрации, митинги и схватки с полицией. Движение развернулось в Выборгском районе, с его крупными предприятиями, оттуда перекинулось на Петербургскую сторону. В остальных частях города, по свидетельству охранки, забастовок и демонстраций не было. В этот день на помощь полиции вызывались уже и воинские наряды, по-видимому, немногочисленные, но столкновений с ними не происходило. Масса женщин, притом не только работниц, направилась к городской думе с требованием хлеба. Это было то же, что от козла требовать молока. Появились в разных частях города красные знамена, и надписи на них свидетельствовали, что трудящиеся хотят хлеба, но не хотят ни самодержавия, ни войны. Женский день прошел успешно, с подъемом и без жертв. Но что он таил в себе, об этом и к вечеру не догадывался еще никто.