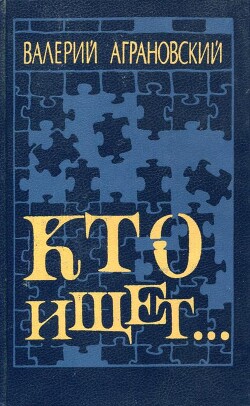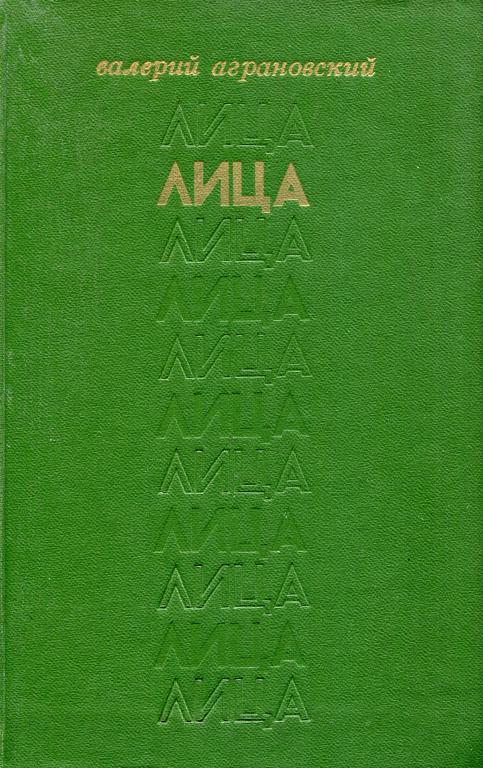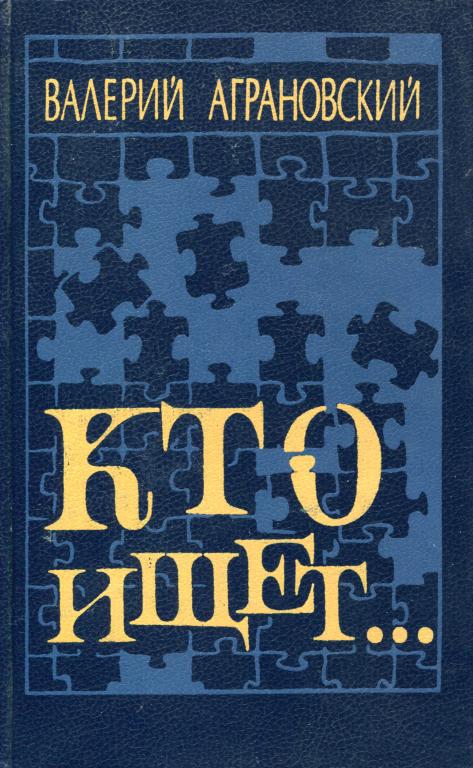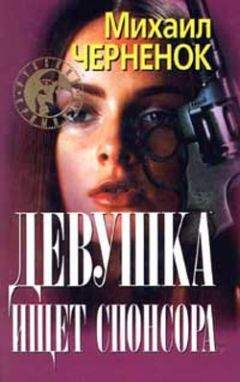Провожать нас особенно никто не провожал — так, помахали нам на дорогу сотрудники станции, которых отъезд наш застал на улице, да кот Джон с Мариной Григо, причем Марина, откуда-то появившись, жестами предупреждала меня, чтобы я не очень поддавался чарам Игнатьева, жесты были неопределенные, но смысл их я понял, и вездеход двинулся.
Джон отстал от нас только в поселке. Мы проехали по главной улице, носящей имя героя-летчика, погибшего во время войны и жившего когда-то в этих местах, а по ту сторону поселка Игнатьев приказал Петровичу остановиться. Рядом была буровая, законсервированная до зимы.
— Опять украли, — без сожаления констатировал Игнатьев, обойдя буровую и показывая мне остатки цветных проводов, снабженных устрашающей надписью: «Не подходи! Убьет!» — Надо же, — сказал Игнатьев, — ничего их не пугает: грамотные! Они из этих проводов пояса себе вяжут. Как дети!
Взяв ружья и устроившись на крыше вездехода, мы двинулись дальше. Время было охотничье, а тундра, как известно, царство птиц и зверей. Тут и гуси есть, и гагары, и журавли, и гаги, и медведи, и волки, и кого только нет, а из «невинных животных», как выразился Игнатьев, водятся зайцы. Но все это были слова, а в натуре я увидел всего лишь стаю леммингов — тундровых мышей. Игнатьев, тоже их заметив, сказал: «Порядок!» — а в чем порядок, я не понял, и тогда он прочитал мне целую лекцию о том, что леммингами питаются коршуны, полярные совы, песцы, волки и так далее и что даже собаки иногда «мышкуют», и это забавно наблюдать, когда они вытанцовывают перед норкой лемминга, выгоняя мышь наружу.
Когда есть лемминг, сказал Игнатьев, то и хищники сыты, и зайцы целы, потому что зайцем хищник промышляет только тогда, когда уходят из тундры лемминги и приходится с голодухи гоняться за слишком быстрым и, вероятно, не очень вкусным зайцем, с точки зрения, положим, волка.
Как ни странно и страшно это звучит, лемминги на Севере — это «носители мяса». Уходят из тундры лемминги — а уходят они лавиной, все сметая на своем пути, и никто не знает почему, — вслед за ними немедленно уходят зайцы, песцы и куропатки, спасаясь от хищников. А без этих животных и волкам в тундре делать нечего, и росомахам, и бурым медведям, и даже таким мелким хищникам, как орлан, коршун или сова.
И тогда охотники «ревут белугой», сказал Игнатьев, и тоже покидают насиженные места и поселяются там, где почему-то останавливается лемминг, своей гибелью дающий начало новой жизни. Этим, наверное, и объясняется кочевой образ жизни местных охотников.
Я слушал Игнатьева не без интереса, больше того, за девять дней, проведенных нами в дороге — два с половиной дня туда, два обратно, а остальное время в отряде Мальцева, — мне приходилось много раз забывать о недоброй игнатьевской «сущности». Он вел себя так и говорил такое, что я готов был принять его за «лемминга», но не за «волка», он явно поворачивался ко мне какой-то новой своей стороной, прежде мною не видимой.
Игнатьев говорил много о себе, став моим гидом не только по тундре, но и по собственной своей жизни. Теперь я знал о нем все, и это «все», литературно обработанное, я хочу предложить читателю. Для этого мне пришлось объединить разрозненные истории в единое целое, но я отлично помню, когда и где какая история была мне рассказана Игнатьевым: эта — у костра, эту я узнал на крыше вездехода, а эти размышления — в отрядном вагончике, где мы ночевали, опустив бязевый полог, чтоб нас не очень ели комары.
ИСПОВЕДЬ ИГНАТЬЕВА. «Вы не поверите: когда-то я был по натуре очень спокойным человеком. Люди знали: чтобы «вывести из меня», надо сделать из ряда вон выходящее. А теперь я живу одним клубком нервов… Вспылить — могу, орать — могу, розги ввел бы для сотрудников, сам бы их порол — а почему? Потому что я человек непримиримый. И первое слово тут принадлежит моей жене. Нинка моя до невозможности правдива, до конца пряма — не многим это нравится.
Но и жизнь в моей биографии тоже не последнее слово сказала.
Я вот столичный вуз окончил. Но если вы думаете, что я по биографии своей «столичный», глубоко ошибаетесь. Я самый что ни на есть «лапотник» из города Кудымкар — вы и слыхать о таком, наверное, не слышали. В Коми АССР бывали? Нет? Моя родина.
Я был четвертым в семье, а всего нас было три брата и три сестры. В начале войны мне сколько? Ну да, десять исполнилось, а кончилась — стало быть, пятнадцать: самый-самый возраст.
В сорок девятом я окончил школу. Мы, хоть и в городе жили, держали корову, а потому крестьянской жизни — доить, косить сено, полы мыть, готовить и прочее — были обучены, особенно я, самый старший мужик после отца.
Из школьной жизни не забуду нашу географичку Веру Семеновну. В Коми были древнейшие, еще петровских времен, заводы. Мы их все облазили — спасибо за это географичке. И даже в Москве побывали с экскурсией, прошли по институтам, и с тех пор родилась моя коронная мечта стать авиационным строителем. После десятого класса я отослал документы в МАИ. Отец сказал: «Мне нужен помощник, я старый уже!» Но я ответил, что помощник из меня будет лучше, если я выучусь. Моего отца переубедить — жизни не хватит. Пока что мы начали с ним строить новый дом. Все лето прошло в делах, а осенью я сказал: «Все, батя, мне пора!» Сколотил деревянный сундук, сложил туда книжки и выехал в Москву. Сдавать экзамены. В МАИ. Денег у меня не было, только пара белья, которую мне мать ночью, по секрету от батьки, сунула в сундук. Поезд шел тридцать шесть часов. Вечером я приехал в Москву и несколько ночей провел дома у Пашки. Кто такой Пашка — не помню, обыкновенный парень, мы познакомились в поезде. Как и все туристы, к которым я себя по характеру причисляю, я был человеком общительным. А потом я жил на вокзале, а к экзаменам готовился в метро.
Черт его знает! Когда другой рассказывает, слушаешь его и думаешь: зачем скукоту разводит? Кому это интересно? А когда ты сам о себе рассказчик, каждая мелочь кажется тебе очень важной и что-то там такое объясняющей, я уж не говорю о том, что просто приятно вспомнить, хотя далеко не все было приятным.
Математику я сдавал первой, сдал на пятерку, и меня тут же поселили в общежитие. И пошло! В одной комнате нас было, чтоб не соврать, шестьдесят человек! Все три математики я сдал на пятерки, но больше всего боялся сочинения, я хоть одну ошибку, но обязательно делал, а проходной балл в МАИ тридцать четыре из тридцати пяти. И вот когда мы написали сочинения, а потом нам объявили результаты, я стал прыгать и кувыркаться, потому что получил первую в жизни пятерку по сочинению. Физика, химия, немецкий — не проблема, и у меня в кармане тридцать пять баллов. Так я попал в МАИ — в тот год, когда конкурс ломал многие судьбы.
Но ведь так не бывает в жизни, чтобы одни удачи да удачи, когда-то и огорчения приходят, они идут чересполосицей. До конца третьего семестра я получал повышенную стипендию — отличник! — а для меня деньги были всё, потому что отец поставил на мне крест. Но потом я столкнулся с одним профессором, сказав ему при всей аудитории, что он плохо читает лекции. Я был прав, но теперь понимаю, что слова мои были глупы, и я даже имени этого профессора вам не скажу: он жив и знаменит, и если вы помянете его в своей писанине, а он поймет, что через меня, в его силах причинить мне даже здесь новые неприятности. А я уже стал умным.
Тогда этот профессор вел у нас и практические занятия по сопромату. В течение нескольких дней он в отместку за мои слова продерживал меня у доски по два часа кряду, а потом я взъелся и вообще перестал отвечать. В итоге меня без зачета не допустили к экзамену, без экзамена — ко всей сессии, и ничто мне помочь уже не могло, даже мое хорошее положение в институте. Я решил уходить совсем, расставшись с мечтой стать авиастроителем. Правда, я мог публично извиниться перед профессором и мне простили бы дерзкое поведение, но я был горд — и оказался у разбитого корыта.
Долго я ходил по Москве. По институтам. Искал переход. Ну и нашел, конечно: в инженерно-строительный имени Куйбышева был объявлен дополнительный набор. Явился я к декану гидростроительного факультета — это было в середине февраля, все места по дополнительному набору уже были заняты — и с великим трудом добился зачисления, просто выплакал его. Отныне и навсегда общее с самолетостроением было для меня только в слове «строение». Мне пришлось досдавать геодезию, о которой я знал, что ходят какие-то люди с какими-то трубками по земле, и гидротехнику, о которой я вообще ничего не знал. Но все получилось отлично, и я даже не потерял семестра. Между прочим, злополучный сопромат я сдал на пятерку! — так, маленькое торжество над моим обидчиком-профессором.