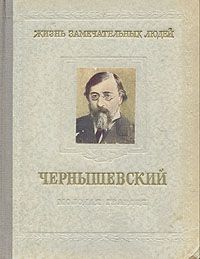него семья, живущая в плохой избенке, едва прикрытая рубищем, подобно ему, питающаяся, подобно ему, по выражению г. Шевырева, «скудною и неудобоваримою пищею»? Бедняк делает дурно, когда тратит деньги на что-нибудь, кроме улучшения быта своей семьи.
И как он пьет! Разве так, как мы с вами, читатель, столовое дано? Нет, он пьет, когда дорвется к вину, до бесчувствия. Питье водки у бедняка всегда бывает пьянством.
И почем он покупает водку? И какую водку продают ему? Об этом нечего и говорить.
Или в самом деле надобно доказывать, что никому, кроме идиота, не может прийти в голову видеть сектантство в том, когда разоренные бедняки видели необходимость исправиться от порока, их разорявшего? Или надобно говорить о том, выигрывает ли государство или, пожалуй, казна, когда бедняк отказывается от единственного наслаждения, чтобы поправить свои дела?
Разве трудно рассудить, что каждый рубль, который получается от водки, разоряющей народ, что каждый такой рубль отзывается десятью рублями недочета в других податях и сборах? В России больше населения, нежели в Англии и Франции, взятых вместе; пространство плодородной и населенной земли, служащей главным источником богатства, по крайней мере в пять раз больше. Получает ли русская казна хотя две трети того дохода, какой получает одна французская или одна английская? Нет, и того далеко не получает. Отчего же это? Как отчего? Много ли вы возьмете с бедного народа? А в чем одна из главных причин бедности народа? В водке. Кажется, расчет ясен?
Пусть водка доставит вдвое меньше дохода; зато мы отпустим за границу вдвое больше товаров, потому что меньше их пропьем и больше наработаем. Взамен за эти товары мы купим вдвое больше заграничных, и одна прибыль в таможенных пошлинах с двойным, с тройным избытком покроет недочет винного сбора; и, кроме того, в податях будет меньше недоимок, промышленные сборы станут давать гораздо больше прежнего.
Почему русские пьют
(из статьи «Откупная система»)
К числу особенностей нашей литературы принадлежит какое-то особенное ее расположение к повальным припадкам накидываться вдруг, без всяких новых видимых причин, всеми силами на какой-нибудь предмет, который вчера был совершенно таков же, как ныне, и совершенно таким же останется завтра, а между тем, ни вчера не занимал, ни завтра не будет занимать ни одной страницы печатной бумаги, а сегодня служит целью бесчисленных патетических рассуждений.
Искони веков, от Рюрика до наших дней, богата была наша Русь взяточниками. Скажите же, с какой стати было так свирепо набрасываться на то, о чем можно было до той поры так удобно молчать? Что за странные люди! лет пятьдесят очень хладнокровно носили в груди так называемую, на высоком языке, страшную язву и хоть бы кто-нибудь, когда-нибудь слыхивал от нас об ней, – и вдруг ни с того, ни с сего начинаем с жаром бить себя по этой груди и кричать: «Ах, посмотрите, добрые люди, у нас тут глубокая язва!»
Сострадательные люди подошли на наш отчаянный крик и стали смотреть: в самом деле, у нас на груди язва довольно вредного качества. Но отчего произошла эта язва, мы никак не решаемся сказать. От случайного ли какого-нибудь ушиба явилась она, или от врожденного худосочия, или от нездорового образа нашей жизни – этого никто из нас не объявляет добрым людям, в которых старается пробудить показыванием своей язвы сострадание, смешанное с отвращением. Подойдут добрые люди, покачают головами и пойдут прочь: как, в самом деле, лечить болезнь, причины которой упорно скрывает больной! Это упорное молчание о причинах зла составляет вторую нашу особенность.
Что случилось со взятками года два тому назад, то же самое произошло на сих днях с откупами. Какой новый вред стали приносить с половины нынешнего лета откупа, мы не знаем, да и никто, кажется, не может сказать, чтобы ныне позволяли они себе какое-нибудь злоупотребление или налагали бы на страну какую-нибудь тяжесть, которой не налагали бы и два, и три года, и двадцать, и тридцать лет тому назад. На каком же основании вдруг так набросились мы на откупа, с которыми так мирно и молчаливо уживались прежде? За то какой же безграничностью порицаний и вознаграждаем мы себя за упущенное для порицания время! Если послушать нас теперь, можно подумать, будто откупа величайшее бедствие нашей общественной жизни, будто они что-то вроде той «идеи» трансцендентальных философов, которая, сама ни от чего не происходя и не завися, производит все. От откупов все бедствия нашей жизни: и бедность народа, и разврат, овладевший значительной частью народа, и вследствие бедности и разврата наше невежество, наше нравственное бессилие, отсутствие в нас понятий о нашем человеческом достоинстве.
Словом сказать, откупа подверглись тому же самому эпидемическому нападению, как взятки; точно так же мы без всяких новых оснований вдруг начали толковать, что откупа величайшее зло нашей жизни, что с устранением этого зла мы стали бы процветать и благоденствовать; точно так же мы молчим о причинах, производящих это явление, вдруг ставшее несносным для нас.
Действительно, откупа – вещь очень не прекрасная, вещь, защищать которую не решится ни один благонамеренный человек. Но признаемся, что нам становилось как-то неловко при чтении большей части статей, направленных против откупов. Мы чувствовали нечто вроде того, как если бы человек, двадцать лет мирно встречавшийся в обществе с каким-нибудь отъявленным шулером, вдруг без всяких новых поводов начал на чем свет стоит порочить этого шулера и доказывать, что если бы этого негодного человека изгнать из общества, то общество значительно выиграло бы. Друг мой, ваше негодование справедливо, но зачем же оно так долго молчало? Я имею дерзость предполагать, что вы слишком наклонны к прекрасному правилу мудрости: не давать воли языку, если столько лет скрывали ваше чувство. Видя в вас такого совестливого хранителя вышеупомянутого прекрасного правила, я не могу защититься от мысли, что и теперь оно нарушено вами по каким-нибудь причинам, не имеющим ничего общего с прямотой и независимостью характера. Вы представляетесь мне человеком, который не смел дурного слова сказать об Иване, пока Ивана кто-нибудь защищал, и осыпает чрезвычайно благородными и отважными укоризнами того же самого Ивана, увидев, что от Ивана отступились все. Ваше геройство представляется мне усердием вломиться в отворенную уже дверь.
Притом же, неужели не следует назвать излишним простодушием