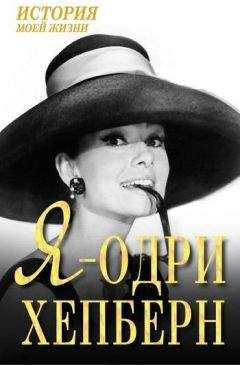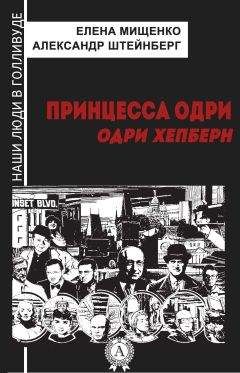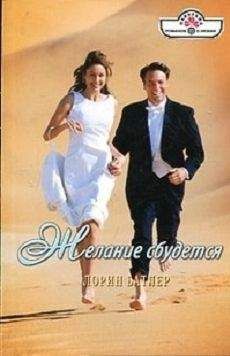думала – ну ладно, получу лицензию медсестры и тогда вернусь в Мексику…
Адриенна: Со своим ремеслом.
Одри: Но это тоже оказалось невозможно. У меня не было денег, а Черным женщинам не давали стипендий для обучения на медсестер. Тогда я этого не понимала, потому что мне сказали только, что у меня слишком плохое зрение. Но когда я вернулась, первым делом я написала прозаический текст про Мексику под названием «Ла Йорона». Ла Йорона [75] – легенда из этой области Мексики, в районе Куэрнаваки. Ты знаешь Куэрнаваку? Ты знаешь большие барранкос [76]? Когда в горы приходят дожди, по большим ущельям скатываются валуны. Звук первого обвала раздается за день-два до дождя. Кучи камней, скатывающихся с гор, подают голос, а эхо повторяет его, и получается звук, похожий на рыдания, а на фоне шумит вода. Модеста, женщина, которая жила в доме, где я остановилась, рассказала мне легенду о Ла Йороне. У одной женщины было трое сыновей. Однажды она нашла своего мужа в постели с другой женщиной – это история Медеи [77] – и утопила сыновей в барранкос, утопила своих детей. И каждый год примерно в это время она возвращается оплакать их смерти. Я взяла эту легенду, соединила со своими переживаниями и написала рассказ «Ла Йорона». Это история, по сути, про мою мать и меня. Я как бы взяла свою мать и поставила ее на это место: вот эта женщина, которая убивает, которая хочет чего-то, женщина, которая пожирает своих детей, которая хочет слишком многого, но не потому что она злая, а потому что она хочет вернуть собственную жизнь, но она уже настолько искажена… Это был очень странный неоконченный рассказ, но динамика…
Адриенна: Звучит так, будто ты пыталась соединить две части жизни: свою мать и то, чему ты научилась в Мексике.
Одри: Да. Понимаешь, в этом тексте я никак не работала ни с тем, насколько сильно я впитала в себя свою мать, хотя это так, ни с тем, как я сама была в это включена. Но это красивая история. Отрывками она хранится у меня в голове, в том месте, где у меня источник стихов, фраз и всего такого. Я никогда не писала прозу ни до этого, ни после, до сих пор. Я опубликовала ее под именем Рей Домини в журнале…
Адриенна: Почему ты взяла псевдоним?
Одри: Потому что… я не пишу рассказы. Я пишу стихи. Поэтому я должна была поставить под ней другое имя.
Адриенна: Потому что это другая часть тебя?
Одри: Именно так. Я пишу только стихи, а тут этот рассказ. Но я взяла имя «Рей Домини», что значит «Одри Лорд» на латыни [78].
Адриенна: Ты правда не писала прозу со времен этого рассказа и до тех пор, пока не написала «Поэзия – не роскошь» пару лет назад?
Одри: Я не могла. Не знаю почему, чем больше стихов я писала, тем сильнее чувствовала, что не могу писать прозу. Меня просили отрецензировать книгу, или составить аннотации, когда я работала в библиотеке, – не то чтобы мне не хватало навыков. К тому моменту я умела составлять предложения. Я умела построить абзац. Но как можно передать глубокие чувства линейными, сплошными блоками печатного текста – это казалось мне чем-то загадочным, непостижимым.
Адриенна: Но ведь письма ты писала молниеносно, разве нет?
Одри: Ну, я не писала письма как таковые. Я записывала поток сознания, и для тех, кто были мне достаточно близки, это годилось. Подруги вернули мне письма, которые я отправляла им из Мексики – странно, но эти мои письма самые внятные. Я помню ощущение, что я не могу сосредоточиться на мысли достаточно долго, чтобы проследить ее от начала до конца, хотя над стихотворением я могла думать днями напролет, уходить в его мир.
Адриенна: Как ты думаешь, это было потому, что ты продолжала представлять себе мышление как таинственный процесс, которым занимаются другие, и думала, что тебе это нужно тренировать? Что для тебя это не естественно?
Одри: Это был для меня очень таинственный процесс. Более того, со временем я стала относиться к нему с подозрением, потому что видела, как много ошибок совершается во имя его, так что я перестала его уважать. С другой стороны, я и боялась его, потому что я пришла к некоторым неизбежным выводам или убеждениям насчет своей жизни, своих чувств, и эти выводы не поддавались осмыслению. А я не собиралась их бросать. Не собиралась от них отказываться. Они были слишком дороги мне. Они были моей жизнью. Но я не могла проанализировать или понять их, потому что они не имели того смысла, который меня учили искать через понимание. Это были вещи, которые я знала и не могла высказать. И не могла понять.
Адриенна: То есть не могла выделить их, проанализировать, обосновать?
Одри: …Написать о них прозу. Да. Я написала много таких стихов – это те, по которым ты познакомилась со мной, из «Первых городов» [79], еще в старшей школе. Если бы меня попросили рассказать что-нибудь об одном из этих стихотворений, я бы говорила банальнейшие вещи. Единственное, что у меня было, – это ощущение, что я должна держаться за эти чувства и должна как-то выпустить их наружу.
Адриенна: Но они тоже преобразовывались в язык.
Одри: Да. Когда я писала что-то, в чем наконец получалось это ухватить, я читала это вслух, и оно оживало, становилось реальным. Оно начинало повторяться, как эхо, и я понимала: я попала в точку, это оно. Как колокол. Верная нота. Так и находились слова.
Адриенна: Связано ли для тебя писательство с преподаванием?
Одри: Я знаю, что учить кого-то – это техника выживания. Для меня, и думаю, в целом, это единственный способ по-настоящему учиться. Потому что так я сама училась всему, что было необходимо, чтобы жить дальше. И я исследовала эти вещи и учила этому других в то же самое время, когда училась этому сама. Я учила саму себя вслух. Всё это началось в Тугалу [80], на поэтическом семинаре.
Адриенна: Ты была больна, когда тебя пригласили в Тугалу?
Одри: Да, мне было… Я чуть не умерла.
Адриенна: Что произошло?
Одри: Диана Ди Прима – это было в 1967-м – открыла «Поэтс Пресс» [81]. И сказала: «Знаешь, пора бы тебе написать книгу». А я ответила: «Кто же ее издаст?» Я хотела отложить те стихи, потому что поняла, что слишком много правлю их вместо того, чтобы писать новые, и именно так я