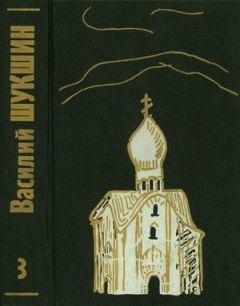Но горячая кровь никогда не зарумянит его щеки.
Если я и хватил через край, то в том направлении, в каком лежит истина. Так в практике нашего кино и сложилось: сценарий никто всерьез не принимает за литературу. Крайне сомнительно, что какой-нибудь уважающий себя «толстый» или «тонкий» журнал станет печатать сценарий наравне с «обычной» прозой. Это делает «Искусство кино» — двенадцать раз в год. (На сто двадцать фильмов!)
Я написал сценарий о Степане Разине, у меня вышло триста страниц. Казалось бы, ну и что? Это же литературный сценарий. Судить его надо пока по литературным достоинствам, по тому, удались или не удались характеры, близок ли он к исторической истине… Наконец, можно ли по нему поставить фильм? Мое кинематографическое начальство твердо сказало: много. Надо примерно сто пятьдесят — двести страниц. (Для двух серий.) Сколько я ни упрашивал, сколько ни распинался, что и мне, и тем, кто будет со мной работать, чем больше знать о том далеком времени, тем лучше. Уж коли мне пришлось перечитать уйму книг, как-то использовать редкие документы, то почему же те сто страниц — «лишние» — будут лежать у меня в столе? Я готов понять требование того же «Искусство кино» — сократить: там журнальная площадь, которую не могу занимать я один. Но ведь тут речь идет о, так сказать, рабочем варианте. Ничуть не бывало! Один из начальников заявил, что он даже читать не будет «такую махину». С кровью сердца выдрал сто страниц. Зачем, черт его знает. Если верят, что я вообще сделаю такую картину, то почему не верят, что я, режиссер, сделаю только две серии? Мне самому больше не надо. А с трибун взываем и жалуемся: почему писатели так неохотно идут работать в кино! А как же они — охотно! — если с ними будут так вот поступать. Это только я, «киношник», позволил так с собой разговаривать. А что делать? Мне очень хочется поставить фильм о Разине. Я угробил на сценарий два года, отступать некуда. И теперь болит душа: читают, а я там просто выкидывал, обрывал сцены, вычеркивал абзацы, которые вовсе не мешали. Разве так пишут! Ладно бы, читали и говорили: «Вам не кажется, что здесь затянуто?» Нет, говорят, хорошо, но это же на четыре серии! «Да ведь будет режиссерский сценарий!» — «А вы там будете метраж занижать». При чем тут литература? Литературный сценарий… Надо, видно, писать так: «Проход казаков к Астраханскому кремлю. Казаки оживлены. Народ приветствует их. Камера выхватывает радостные лица посадских казаков». Вот и получается, что более или менее смышленая домохозяйка втайне убеждена, что она сможет написать сценарий. И пишут! Пишут пенсионеры, домохозяйки, все, кому не лень. И удивляются и жалуются, когда им говорят, что это плохо.
Вернемся, однако, к начатому разговору: о природе литературы и кино. Хоть я и жалуюсь тут, что в киноинстанциях небрежно обращаются с литературой, а ведь и я не писал так, как пишут повесть, роман или рассказ. Надо мной все время — топором — висело законное требование: все должно быть «видно». Я просто позволил себе писать чуть более пространно, подробно, чем «казаки оживлены». Не больше. Истинная литература за такие штуки бьет кованым копытом по голове.
Нет, должна быть — кинолитература, пусть — сценарий, но без претензии на «тоже литературу». А уж это дело сценаристов — встать вровень с писателем, но по-своему. И дело, наверно, творческой общественности — писательской и кинематографической — помочь молодому кровному брату — сценарию — выйти на свою собственную дорогу и шагать твердо, а не поспешать вслед повести с оскорбленным видом.
Есть у меня друг, писатель, великолепный писатель. Он задумал сценарий кинокомедии. Почти уж написал. Прочитал мне. Он — писатель, он не мог, чтобы «камера выхватывала лица», но он достаточно опытен, чтобы почувствовать разницу между сценарием и повестью и не написать повесть, что он прекрасно умеет. Это — сценарий. И какой! У нас такой комедии еще не было, смело могу это заявить. И смешно, и грустно, и думать охота. Но представил я, как будет он мыкаться с ней, искать режиссера, а он не умеет, да у режиссера часто — «свое на уме», а и найдется какой — не так поймет, скажет: вот тут изменить бы… И посоветовал я ему: пиши как повесть. Появится в журнале, прочитают — может, захотят поставить. Тогда напишешь сценарий. Или продашь право на экранизацию. А так — куда с ней? «Искусство кино»… Не беспределен и этот журнал; и потом, как правило, там идут сценарии, которые как-то уже нащупали свою производственную судьбу. По-моему, он согласился — так вернее. Обидно! Я пытаюсь заинтересовать режиссеров, каких знаю, этой необычной комедией, но… каждый ходит уже с замыслом, или работает с писателем, или сам пишет. Иначе и быть не может.
Пора, однако, говорить более убедительно, почему истинная, большая литература не может служить основой для кино. А может служить основой для кино истинная, большая кинолитература.
Есть у Льва Толстого рассказ «Три смерти». Гениальный рассказ с огромной мыслью: все вечно живет и вечно умирает — по-разному только. Допустим, что у кого-то зачесались руки — поставить рассказ. С этой целью внимательно прочитаем хотя бы первую главу рассказа и прикинем, что приблизительно будет на экране. Мое построение весьма и весьма хрупко: пять разных режиссеров сделают пять разных фильмов. Возможно, среди них будет один очень неплохой. Вот на этот, неплохой, — сколько нас хватит, — и будем оглядываться.
В карете едет смертельно больная госпожа, с ней — горничная Матрена, «глянцевито-румяная и полная». Сзади, в коляске, едут: муж больной и доктор. Лакей, ямщики.
Чахоточная больная, как все они, видно, убеждена, что за границей, поехай она туда раньше, она «была бы совсем здорова». И теперь она рвется туда душой, верит, что будет здорова там. Муж (а ему убедительно советует доктор) робко пытается отговорить жену от столь рискованной поездки теперь, в сырость и бездорожье, но тщетно. Больная раздражается, злится, мысль о смерти приводит ее в холодный ужас, для нее сейчас не существуют ни дети, ни муж, ни жизнь других людей вокруг. Ее раздражает, что они все здоровы («Дети здоровы, а я нет». «А сам ест» — о муже), что ямщики переговариваются «сильными, веселыми голосами». Сам Толстой так говорит о ней в письме к А. А. Толстой от I мая 1858 года: «Барыня жалка и гадка, потому что лгала всю жизнь и лжет перед