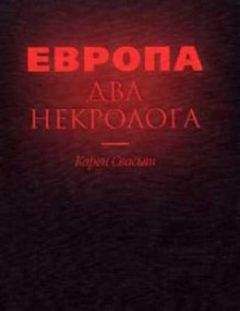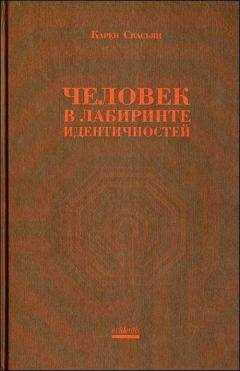Машина, человеческое создание, относится сегодня к своему создателю, как человек, создание Божье, к своему Творцу. Последний акт западной культуры свершается в мире умных атеистических машин. Лирико–мистически заболтанная «смерть Бога» уступает место «смерти человека». Ибо в начале названного человека был не Логос, а Дискурс, поддерживаемый всякого рода «грантами», по–русски: оплачиваемой ученой болтовней. Мишелю Фуко удалось подслушать одну из последних внезапных мыслей, способных еще уместиться в этом сознании: «Дискурс — не жизнь; время дискурса — не ваше время; в нем вы не найдете примирения со смертью; может статься, что вы убили Бога тяжестью всего, что вы сказали; не думайте, однако, что из всего того, что вы говорите, вам удастся сделать человека, который будет жить дольше, чем Он»[75].
Средневековое тело стоит перед средневековой душой как аристотелевская физика перед аристотелевской метафизикой, впрочем, уже не скульптурно–самонадеянно, а согбенное под бременем неискупленности. Оно осознает свою греховность и оттого надевает власяницу. Чего оно единственно взыскует, так это прощения. Но прощено может быть оно лишь в том случае, если само станет душой. Средневековое тело мечется во все стороны, заточает себя в монастырь или освобождает Иерусалим, целиком отдаваясь страсти стряхнуть себя с себя самого и уподобиться душе. Вслед за Dominus Аристотелем верит оно, что несет свою душу в себе как в темнице, и тяготится горькой участью быть темницей Бога. Оно наказывает себя за это и надеется смягчить вину постом и молитвой, покаянием и воздержанием. Добровольно ставит оно себя в услужение душе. Средневековое тело есть раб своей госпожи, которая есть его пленница. Поскольку тюрьма рушится лишь со смертью и лишь со смертью узница получает свободу, ему, покуда оно еще живо, не остается ничего иного, как источать себя до прозрачности, до призрачности, дабы душа еще прижизненно могла чувствовать себя в нем как дома, читай: в смерти. Оно ненавидит в себе свою телесную явь и способно выносить себя лишь в своей тоске по смерти.
И хотя от него не скрыта засвидетельствованная великим психоаналитиком церкви, папой Иннокентием III, безотрадность его происхождения: «Formatas de spurtissimo spermate, conceptus inpruritu carnis» («Образовано из нечистого семени, зачато в зуде плоти»), тем не менее оно верит в возможность преодоления этой позорной генеалогии героическими деяниями. Плоть грезит о развоплощении, развеществлении, одушевлении. Что, впрочем, она не только грезит об этом, но и может это, доказывают многочисленные свидетельства, знамения и памятники времени: от воздушно легкой каменной телесности великих соборов до стигматов великих святых. Лишь обмолвкой можно извинить неточности вроде: в Шартрском соборе действовала школа платоников. Точнее было бы, во всяком случае, сказать: оба, Шартрский собор, как и действующая в нем школа Шартра, были, бесспорно, платониками — школа, как душа, по судьбе и предназначению, собор, как тело, по денному и нощному посту и молитве. Молящийся и постящийся камень называется готическим и преодолевает свою тяжесть. Он гравитирует вверх. Ничто не свидетельствует реальнее в пользу веры, сдвигающей горы, нежели волшебные постройки средневекового зодчества. Собор верит и — воспаряет в небо. История готики — это не только архитектура, но и чудо, в которое и по сей день всё еще вынуждены верить глазами. Если некогда верили в соборе, то нынче верят в собор. Чудо: случилось так, что бегемоту внушили, что он птица и способен летать.
Дальше случилось так, что простак бегемот поверил в это и действительно взлетел. С тех пор и поныне он левитирует в западном небе: в свободном падении вверх. — Кто не способен поверить в это на слово, тот пусть взглянет однажды, следуя заходящему солнцу, на тянущиеся из города в город готические миракли перелетных бегемотов. Плоть собора повисает в воздухе, как тело канатоходца или лунатика. Здесь, в готически преображенном камне, средневековое тело назначает себе меру и образец поведения — и удостаивается высшей похвалы кудесника Люцифера. Так же и отшельник — хоть и не бегемот, но кандидат в святые — силится стать готическим, что значит: преодолеть gravitas своей грешной плоти и затеряться в небесном. По смерти он канонизируется, останки его расчленяются на части и консервируются как мощи. По случаю какого–то празднества французский король Карл VI дарит ребра своего предка, святого Людовика, епископу Камбре и двум своим дядьям, герцогам Беррийскому и Бургундскому; некоторым прелатам достается нога, которую они делят меж собой. Понятно, что далеко не каждая плоть удостаивалась такой привилегии. Телу святого манихейски противостоит тело грешника.
Хотя грешнику и отпущено тянуть лямку своего существования, всё–таки он может преждевременно и как бы внеурочно быть спасенным, если его грешная плоть предусмотрительно будет отправлена на костер. Плоско и нелепо изображать средневековых инквизиторов человеконенавистниками и садистами. Они действовали из любви и милости, полагая очистить свои жертвы от скверны костром[76]. Даже упрямейшим бегемотам, не верящим ни во что, кроме собственных туш, и всё же стенающим об освобождении, дан шанс развоплощаться на костре и взмывать ввысь в подобии gotique flamboyante.
Как фюсис с психеей в Средневековье, так тело современного европейца повязано судьбой с физикой Нового времени. Еще до того, как новое душеведение выступило со спектакулярным заявлением о том, что все душевные страсти суть лишь переодетые телесные функции; до того, стало быть, как главный анатом Вирхов официально оповестил, что ни в одном из вскрытых им трупов он не обнаружил души, физика отняла у теологии лицензию мирообъяснения. Теологическая забота о спасении душ уступила место физическому опекунству над телами, сопровождаемому неотвратимым падением тел: не вверх, а вниз. С началом Нового времени люди Аримана опознаются, между прочим, по своей вызывающей антиготичности.
Человеческий рассудок, говорит Фрэнсис Бэкон в «Новом Органоне» (1620), нуждается не в крыльях, а в свинце и гирях, сумевших бы притормозить его пыл и порыв. После Галилея тяжелым телам вменено в обязанность покончить с люциферическим трюкачеством и честно ариманически падать вниз. Не рыцарские романы, а законы механики задают тон и определяют стиль жизни. XVII век грезит о machina mundi не менее энтузиастически, чем Средние века об imitatio Christi. Необыкновенная барочная складка, где Богу ухитряются воздавать должное механистически, а часовому механизму теологически. В теологии Нового времени Бог мира поставлен перед выбором: либо быть отстраненным от дел, либо же осваивать ремесло часовщика, который, однажды заведя часы, отступает на задний план и дает о себе знать только в случае неполадок. Бог—Механик задает культуре и жизни тон и такт; верующий в Бога есть тот, кто в силу своих возможностей метрономически укрощает все излишества жизни и строго держится в рамках тикающего такта. Наиболее характерно, однако, что научная картина мира с самого момента своего возникновения хочет быть новой религией. Уже Ньютон превозносится современниками как новый Моисей, да и нам всё еще памятна слава физика Эйнштейна, десятилетиями распространяемая по миру как мера универсальной мудрости. Измененным оказывался лишь идеал подражания; в остальном всё оставалось по- прежнему. Физике, а не метафизике, принадлежало отныне решающее слово во всех вопросах культуры и жизни. Если притягательность христианской религии не в последнюю очередь гарантировалась чудотворством, приписываемым её основателю и апостолам, то и новая физическая религия не составляла здесь исключения, разве что её чудотворство порождало не веру, а потребности и потребление.
Вся классическая эпоха только и делает, что уподобляется чудесам мира механики. Не будь религиозный пафос времени расточаем в количествах, сравнимых лишь с количеством пудры на париках, его и нельзя было бы выразить с большей лапидарностью, чем в бурлескной заповеди: Будьте как часы или насосы. Можно вполне допустить, что когерентная этой заповеди набожность определяла стиль барочной и уже просветительской религиозности. Механистическая картина мира классической физики, притязания которой еще не выходили за пределы парадигматики падающих яблок и катящихся бильярдных шаров, позволяла с легкостью имитировать себя и в жизни. Нет ничего более легкого, чем в эпоху, бредящую взвешиванием, измерением и каталогизированием, равнять уклад жизни на механистический миропорядок.
Антропология эпохи (до воцарения человекоподобной обезьяны) фундируется просто машиной. Вскрывают трупы и собственными глазами видят, из чего состоял этот живой аппарат. Даже незримое и оккультное в человеке не выпадает из компетенции чисто философской механики. Кант в письме к анатому Зёммерингу от 10 августа 1795 года сравнивает философию с анатомией, с той лишь разницей, что первая занимается расчленением незримого в человеке, тогда как вторая расчленяет зримое в нем. Знак и модель эпохи‑l'homme machine Ламетри, респективно обнаруживаемый в сотнях свидетельств души, от любовных неистовств Казановы, в которых ньютоновская сила притяжения регулирует также механику спаривающихся человеческих тел, до распорядка дня Наполеона. — Лишь когда физика постепенно, но неотвратимо начинает вторгаться в измерения, которые не поддаются уже никакому подражанию, жизнь обывателя всё больше и больше сдвигается в зону абсурдностей. С середины XIX века классический миропорядок механики уступает место электромагнетической парадигме.