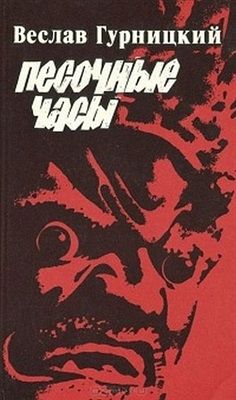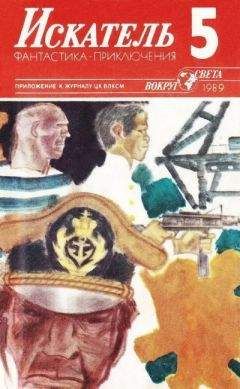Остальное доделали американцы при режиме Лон Нола. Они вложили в Кампучию массу денег, по-видимому, около полутора миллиардов долларов. Они допустили гигантскую, невообразимую коррупцию, чтобы, невзирая на расходы, как можно быстрее создать богатую чиновничье-буржуазную прослойку, в которой видели (и имели на это основания) надежную (ибо местного происхождения) плотину против взбунтовавшегося крестьянского моря. Они не скупились на поставки, денежные средства и посылку специалистов, когда дело касалось сельского хозяйства. В последний год правления Лон Нола урожайность достигла восьми тонн с гектара. Но чем выше были урожаи, тем больше повышались налоги. Чем зажиточнее становились города, тем хуже жилось деревенской бедноте, которая почти вся сочувствовала «красным кхмерам», предоставляла им убежища, прятала от жандармов.
Именно за эти пять лет в Пномпене была воздвигнута большая часть роскошных вилл. Город был коренным образом перестроен. В магазинах появились дорогие промышленные товары со всего мира. Индустриализация обнажила в Кампучии одновременно все прелести и все свое злополучие. Деньги стали мерой всех вещей. Инфляция превысила уровень 30 процентов в год. Два социальных полюса отодвигались друг от друга со скоростью разбегающихся галактик. В прошлом это происходило и в большинстве других стран, но здесь свершилось при жизни одного поколения, в захватывающем дух темпе.
Вряд ли стоит винить «красных кхмеров» в том, что, рассуждая о революции, они с самого начала ударились в крайности. Сианука в Пекине и Лон Нола в Калифорнии никто почему-то не обвиняет в том, что своими действиями они толкнули часть левых сил в Кампучии на поиски решений столь тотального характера. Можно, мне кажется, представить себе причины самого общего характера, которые обусловили появление сверхрадикальных группировок.
LXXIV. Борьба с медициной действительно труднообъяснима. Она поистине ужасает. Но ведь в каждой революции, начиная со взятия Бастилии, случалось немало страшного, подчас вредного и бессмысленного, но это ни в чем не умаляет ни величия, ни исторической справедливости свершившегося.
А не посмотреть ли на это иначе, глазами нищего, неграмотного крестьянина из провинции Кампонгчнанг? При правительстве Лон Нола Кампучия имела один из самых низких в мире показателей обеспеченности населения госпитальным лечением (1200 человек на одно больничное место, в Польше — 129 человек), минимальное количество врачей (один врач на 16 тысяч человек, в Польше — на 600), относительно наименьшую в Азии численность среднего медицинского персонала (на одного офицера армии Лон Нола приходилось 0,07 медсестры или фельдшера). Система здравоохранения и медицинского обслуживания имелась, коли на то пошло, только в городах и охватывала не более трех, максимум — пяти, процентов населения. Она стояла, впрочем, на весьма высоком уровне, будучи превосходно обеспечена антибиотиками, заграничными фармацевтическими средствами, неплохим оборудованием, приличными лабораториями. Не удивительно, что услуги ее стоили ужасающе дорого и практически не были доступны никому, кроме богатых горожан. Врачи принадлежали к числу самых обеспеченных людей в стране. Их гонорар за визит равнялся годовому доходу крестьянской семьи. Упомянутая выше доктор Чей только в «коммуне», а затем в лагере для беженцев встретилась с крестьянами, и это изменило ее политические взгляды. А если бы убитые в Кампучии врачи вдруг воскресли, сколько бы из них по-настоящему стало бы на сторону народа?
Современная медицина со всеми дорогостоящими штучками находилась вне сферы представлений кхмерского крестьянина. Природа сама производила отбор. Акушерка заменяла гинеколога и стоматолога. Травы и минералы в течение веков считались единственным лекарством, тигровым бальзамом довольствовались даже деревенские богачи. А почему, собственно говоря, крестьянин из провинции Кампонгчнанг должен сожалеть, что господ докторов выселили из комфортабельных, прохладных, многокомнатных квартир? Разве у них другие желудки или руки, неспособные трудиться на рисовом поле? Назначение тринадцатилетнего мальчика начальником больницы могло быть результатом самодурства полпотовского начальника. Уничтожение ценного рентгеновского аппарата было, надо полагать, побочным, непредвиденным следствием борьбы против импорта аппаратуры только для богачей. Но и в этом случае надо хорошо разобраться в причинах, склонивших «Ангку» к тому, чтобы объявить войну медицине.
LXXV. Обувь. Правильно, это зрелище сильнее всего врезается в память и производит потрясающее впечатление. Но ведь в данной климатической зоне обувь — выдумка капиталистического дьявола, который нашептывает людям, что они могут жить удобнее, лучше, безопаснее. Сто поколений азиатских крестьян не дошли до мысли о том, что надо носить обувь, и даже не знали о подобном изобретении. Своими босыми ороговевшими ступнями они тысячелетиями измеряли бескрайний континент. Лишь эпоха колониального рабства довела до сознания бедных жителей Азии (богатые раньше узнали эту тайну), что человеческие ступни можно облекать в кожу животных. Поэтому обувь, как социально-экономический факт, следовало одним махом упразднить, по крайней мере среди гражданского населения, потому что армия должна все-таки ходить в обуви. Именно поэтому выселяемым гражданам приказывали снять обувь, прежде чем они покинут город. Надо было, чтобы их изнеженные ступни познали тяготы крестьянской ходьбы, вступили в соприкосновение с матерью-землей, получили «революционную» закалку. Почти у всех начинали кровоточить израненные ступни или наблюдалось опасное заражение, потому что пыль на дорогах Кампучии перемешана с бактерийной флорой в пропорции один к одному. Эти люди впервые в жизни шли по сто или двести километров. Многие из них не выдержали марша. Ну и хорошо. Природа сама лучше знает, как производить естественный отбор, по Дарвину.
Это звучит цинично и жестоко, но ведь не мы, люди средиземноморской цивилизации, отдавали приказы о марше. Скорее система, породившая полпотовцев, была циничной и жестокой. Вот уже тысячу лет никто не жалел крестьянских ног, которые тоже, в конце концов, покрыты эпителиальной тканью, а теперь все в ужасе заламывают руки, скорбя о судьбе барышень из хороших домов, которым пришлось столько километров пройти босиком. Означает ли это, что одна пара человеческих ступней ценнее другой? Как раз в данном случае европейские представления о революции гроша ломаного не стоят. Мы успели позабыть, как реально выглядит стихийная народная революция в тех условиях, когда нет иного выхода. Надо иметь за плечами биографию кхмерского крестьянина, чтобы понять те психологические мотивы, которыми руководствовались командиры и конвоиры, приказавшие разуться выселяемым жителям Пномпеня.
LXXVI. Азиатский город — это значит: сидеть на корточках, болтать с земляками, курить окурки, принести-подать, поклянчить, подивиться, спрятать в рукав. Чем крупнее город, тем больше этого ничегонеделания, тем легче нырнуть в темень узких улочек, в сладостный запах растительного масла, сточных канав, кухонных дворов.
Азиатский город — это господа чиновники в белых рубашках, ужасно важные полицейские, недосягаемые сагибы, вещи страшные и далекие, как луна. Но это и беспрерывное движение, шум, тысяча чудес для обозрения, миллион обещаний на каждом углу, вечная надежда, что что-то случится, что-то изменится. Хорошо. Можно жить, пока злые ветры не изогнут дугою спину, можно молодые свои годы проболтать, просидеть на корточках, пробродяжничать.
А деревня в Азии — это «золотой кулак солнца», пыль и грязь. Это — вставать на рассвете или до рассвета, вечный зной, боль в мышцах, забота о горстке риса, абсолютная призрачность человеческой жизни, все один и тот же запах буйволиного помета, размякшей земли на рисовом поле и сухой соломы.
Город в Азии — это родина местных джиннов и заморского дьявола. Из милых девушек с соседней улицы он делает холодных, расчетливых уличных девок, которые с дураков иностранцев берут во сто раз больше, чем сами стоят. Он порождает коррупцию, дошедшую до стадии клинического заболевания. Он — питомник продажных чиновников, тайных агентов, торговцев опиумом, мошенников и попрошаек, отцов, которые продают собственных дочерей. Он кого угодно засосет, кого угодно развратит. Он растет, как дракон в легендах, пьет кровь, как вампир.
Деревня здесь жестока, но она чиста. Ее жестокость — не врожденная. Она порождена нищетой и неравенством. Это единственная среда обитания, которую еще можно сберечь ради человечества.
Города спасти невозможно.
Азия никогда не знала столь огромных, многомиллионных городов, пока не вторглись сюда белые колонизаторы, которым понадобились проститутки, комиссионеры, посредники, толмачи, шпионы и лакеи. В течение тысячелетий азиатам было в принципе достаточно княжеских столиц и небольших городов, местных центров простого товарообмена и самого необходимого ремесла. Только эпоха колониализма сотворила города-тюрьмы, дерзкие и порочные города-паразиты по самой своей сущности.