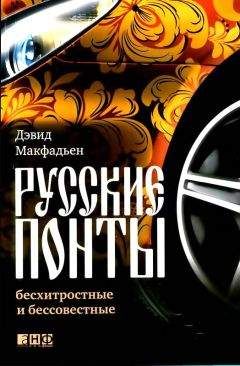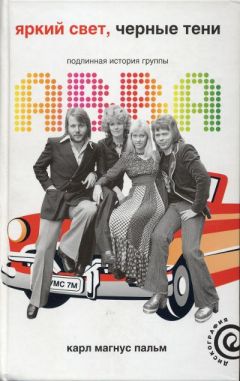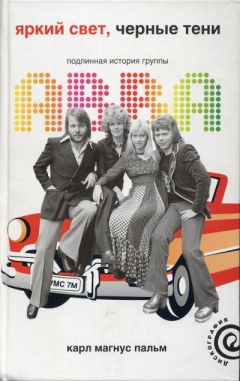В 1861 году многословным манифестом безграмотным гражданам была дана свобода — не только передвигаться по земле, но и «улетучиться» в условия экстремальной нестабильности и безмерной детерриториализации промышленного капитализма. Распахнулись два простора, две никогда не виданные и непредсказуемые ситуации. Одна — буквальная, а другая — виртуальная. Первая была сопряжена с особыми трудностями, когда в зимнее время надо было покрывать огромные расстояния в поисках работы на фабрике. Иллюзорность такой работы («Можно приехать в город, а работы не будет») плюс дестабилизация крестьянской жизни, вызванная капиталом, способствовали не только стремлению к материальной стабильности, но и преступности.
Тут мы видим отчаянный побег от второго, виртуального простора, от ситуаций непреходящего потенциала. Самым распространенным преступлением среди перепуганных крестьян была кража еды, одежды и других вещей, необходимых для материального существования. Как пишет один американский историк, это «говорит о неоспоримой связи между нуждой и риском наказания или даже ссылки, в случае если крестьянин совершит криминальный акт».[177] Простор воспринимался интуитивно как территория, лишенная всяких стабильных опор. Тут не до гордого, самоуверенного славянофильства. Никакой романтики.
Можно доказывать, что подобным русским попыткам «покорить родное пространство» всегда мешают вопросы географии. Воспринять всю страну, даже почувствовать, что это такое, безумно трудно. И страшно. Ее масштаб разве что подвластен интуиции, ощущениям и догадкам, тогда как словами и указами ничего не добьешься. Пространство, сильно повлиявшее на психику своих жителей, словно ускользает от них! Квантификации родной, необъятной страны традиционно препятствует следующее обстоятельство:
Столицы России всегда размещались в одном углу карты. Западная граница России расположена в 20 раз ближе к Москве, чем восточная. Россия — пространство не утопическое, а «атопическое».
Имеется в виду, что при невозможности видеть или разобраться в огромных расстояниях страны, граждане исторически отдают предпочтение централизованной культуре. При Советском Союзе 60 % всех экономических связей осуществлялось через Москву. Народ до сих пор воспринимает свою родину по бюрократическим, а не естественным границам, не только позволяющим им расширять страну, но и мешающим управлять ею. Именно поэтому постоянно господствует [успокаивающий нас всех!] регионализм. Основная дилемма заключается в том, что чем больше расширяешься, тем меньше у тебя будет контроля.[178]
Последняя фраза здесь — стержневая. Дело в том, что вездесущая периферийность мешает нам утверждать, что мы — гордые, самоуверенные представители некой «интеркультуры», которая призвана спасти моральный облик планеты. Поэтому лучше не исходить из того, что индивидуальная — сугубо эмоциональная — психология русскости успешно выражается в государственной политике, или наоборот. Дело в том, что любое приближение к смысловым пределам (к догме, доктринам или языку вообще) будет сталкиваться с несовместимостью пределов и истины. Убеждение, что можно как-то заполнить или преодолеть эту несовместимость, лишь превращает потенциальную скромность перед вечностью или океаническим чувством в беспардонный понт.
Альтернатива приходит к нам интуитивно, в ощущениях жителей бесконечного пространства, т. е. лоха или нашего напуганного крестьянина! Разница между ними вот в чем: после 1861 года крестьянин чаще всего становился не добровольным кочевником (по представлениям Бродского), потенциально компрометирующим «идею горизонта», а измученным гражданином необъятной страны. У лоха более спокойное отношение к пределам языка, к знанию или размеру карты.
Традиционно лох даже ничего не говорит: никому это не интересно! Также ему неважно, где он живет.
В защиту этих аргументов можно напоследок привести современную и поэтому уместную параллель с кинолентой Тодоровского «Интердевочка», выпущенной накануне хаотичных 1990-х, когда стабильная страна превратилась в бог знает что, в распахнутую «беспредельность». В фильме героиня покидает Ленинград ради капиталистической Швеции, но слишком поздно понимает, что истинное осмысление обстоятельств (или русскости) находится вне любой бинарности. Переезд в другую, вроде бы лучшую страну приносит озарение, что в действительности полная правда ситуации для нее — между ними. Она не может быть «интердевочкой» в смысле воплощения успешного, окончательного преодоления бреши между унылым Ленинградом (пыльным прошлым) и радостным Стокгольмом (сверкающим будущим). Она — жертва собственного географического толкования русскости.
Вневременные, нелинейные и эмоциональные связи с матерью плюс дестабилизация традиционных ролей (скажем, отношения торга между дочерью и отцом) раскрывают ужасающий простор. Почувствовав свою ошибку, героиня, судя по всему, совершает самоубийство. Можно утверждать, что такой депрессивный пафос концовки восходит к чернухе сценариев того десятилетия («Мама — там, значит, мне вернуться?») скорее, чем к любому «прыжку веры» Авраама, все дальше и выше от многословного, логического размышления. Но все-таки польза общей эмоциональной структуры фильма очевидна и сегодня, так как многие теперешние психозы начались именно в тот период, когда страна еще раз «распахнулась» и потемкинские деревни рухнули.
Понтовый поиск «лучшего, окончательного» места в такие времена или любые другие попытки систематически организовать действительность лишь открывают эту страшную, но многообещающую картину. Она существует до того, как мы раскрываем рот, выбираем места на карте или начинаем их изучать. Ощутив или почувствовав ее при помощи языка (между словами или между городами), не надо думать, что и дальше можно мыслить рациональным образом. Россия как самая большая страна в мире лучше любой другой политической системы представляет собой отсутствие рациональных лимитов или границ. Разумеется, границы там есть, где-то за горизонтом (я же не полный идиот!), но их невозможно познать. Отсюда вызов океанического чувства и самые драматичные представления об иррациональной лояльности в любви, в деле или в любой подобной «игре».
Поэтому русские, к их общему счастью, и в «беспредельной» стране потенциально находятся в состоянии вечной провинциальности.[179] А провинциальность обычно ощущается в формах обиды: всем хочется быть в центре, а не на краю. Крестьяне XIX века, таскающие хлебушек у городских соседей, тут не отвечают ни нашим требованиям, ни лотмановскому вызову простора: они стремятся в город, к центру. Нам нужны именно провинция и открытое проявление чувств, далекие от ощущения центра или стабильности.
«Провинциализм», который по сути своей, будучи количественной категорией (расстояния/километров), нам не поможет. Мы же хотим двигаться ни во что, преданно всему, что может быть, в эмоциональном состоянии или, так сказать, быть там, где абсолютно неинтересно, где за нами находится столица. Где просто ощущаем все. И молчим.
«Провинциализм» — это осознанное стремление жителя провинции возместить недостатки своего местожительства некоей амбициозностью, родственной амбициозности «маленького человека». Житель областного центра ощущает свою недостаточность перед столичным и вламывается в амбицию перед жителем районного центра (и так — по цепочке — до бесконечности). «Провинциальность» — это не осознаваемое самим жителем провинции отставание от жизни. Провинциализм — это, таким образом, точка зрения самого жителя провинции; провинциальность заметна только «со стороны» «столицы». Неагрессивная провинциальность всё-таки гораздо симпатичнее и поправимее, чем агрессивный провинциализм.[180]
«Провинциальность» тут действительно звучит лучше, но все-таки воспринимается, может быть, как бинарное понятие, обусловленное отдаленностью от центра. Представители данной категории знают, как живут в спальных районах или глубинке, но… в общем-то им все равно. «Лох» куда более обещающий термин: у него уже все потеряно. Шансов у него нет: ему нечего терять, кроме своих цепей, приковывающих его к центру. Лох тихо существует на грани истины; провинциал домой вернется и «Поле чудес» будет смотреть по телику. А нам предстоят другие дела, в особенности с 1991-го.
Постепенно раскрывается полная картина таких грандиозных сфер, на которые претендует понтующийся. Он же утверждает, что справляется со всем, с любой ситуацией. Что действительность — под его контролем. Понт, однако, не примета уверенности, наоборот — он показывает наше смирение перед миром слишком большим, непредсказуемым. И при всем при том понтующийся, ругаясь матом и выпендриваясь, хоть и подсознательно, но понимает, что блефует. Он окружен громадным государством: влияние этого пространства на русские понятия «нормы» или «полноправного существования» закодировано в его (русском!) языке, особенно в мате. Эти понятия делают упор на моральную пользу подразумеваемого эмоционального максимализма. На не требующие слов душевные состояния, в которых ни география, ни целеустремленность уже не важны. Понтующиеся ощущают эти возможности, но боятся необходимости раз за разом отдаваться любой неконтролируемой ситуации, например любви или общественным переменам. Страшно и унизительно.