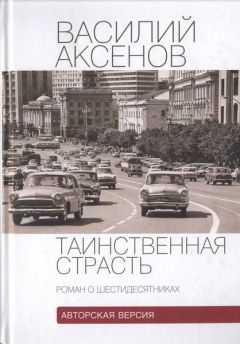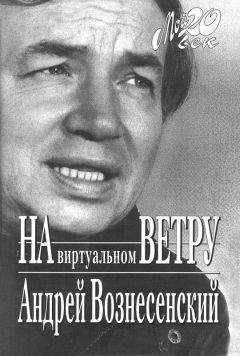«Коллеги» были последним достижением в жанре исповедальной повести. После «Коллег» жанр резко пошел на убыль. Аксенов довел до блеска, до крайней ясности, до предела образную систему, в которой осознавали себя многоречивые юнцы пятидесятых годов, он непроизвольно обнажил и всю несложную механику этой системы, ее рассудочность и призрачность. И дело было не только в образной системе, конечно. Дело было в действительных качествах того реального героя, который стоял за плечами Аксенова и двигал его пером. Это был тот самый, тридцатых годов рождения гражданин, который за недолгие свои предвоенные годы успел выучить песни гражданской войны и революционной Испании, затем проводил на фронт своих старших братьев, смертельно им завидуя, а сам был отправлен «в другую сторону», за Уральский хребет, чем во многом и определилась вся его дальнейшая жизненная и духовная судьба. Война не обожгла его фронтом, она не прокалила его оккупацией, не иссушила блокадным голодом и не поставила к станку под открытым небом. В то время как его старшие братья и сверстники стремительно взрослели в окопах, в партизанских лесах, в развалинах, он вырастал, спасенный, и вынашивал в сердце свою спасенную наивность. Все тем же довоенным лобастым мальчиком Павла Когана, все тем же рационалистом и романтиком вступил он в сложные пятидесятые годы, в годы своего возмужания, в годы, которые вынудили наконец и его выработать свое собственное отношение к жизни. Он находил себя трудно. Жизнь не укладывалась в его стройные концепции, а он не умел из них выпрыгнуть.
Любопытно, что Анатолий Кузнецов, который ввел в литературу этого засидевшегося в идеалистах отрока, сам был человеком более трезвого и сурового опыта. Ему, Анатолию Кузнецову, двенадцати лет от роду выпало дважды спасаться от угона в Германию, ему, пятнадцати лет от роду, пришлось восстанавливать школу, чтобы в ней потом учиться, а двадцати двух лет от роду ему вздумалось податься на Каховскую ГЭС, что он и сделал. Может быть, именно этот трезвый опыт позволил автору «Продолжения легенды» в последующих рассказах превзойти своего юного героя. Сложнее вышло, когда под пером Аксенова этот герой стал исследовать самого себя. Тут-то обнажилась истина. Время, как известно, шло новое, интересное, сложное. Как сказал другой биограф нашего юнца, Анатолий Гладилин, мальчику дико повезло: его повзросление совпало с Двадцатым съездом, с прекрасной и многосложной эпохой обновления. Мальчик попытался приложить к этой эпохе свои мерки. Понадобилось не так много, чтобы обнаружилась иллюзорность его многочисленных прозрений, чтобы стало ясно, как плохо он чувствует жизнь. Понадобился год, чтобы за сверкающим каскадом его монологов и диспутов обнажилась духовная скудость и бедность его реального опыта.
Один год отделяет первую повесть Аксенова — «Коллеги» — от его романа «Звездный билет».
Герои «Коллег» поругивали широкий покрой брюк и высокий штиль речи.
Герои «Звездного билета» щеголяют в вызывающих джинсах, с бородками и ошарашивают читателя таким жаргоном, что в критике открывается то этому поводу специальная дискуссия.
Молодые врачи из повести «Коллеги» бодро доказывали мракобесам, что среди абстракционистов тоже есть люди и что Пикассо и Матисс — это искусство (реабилитировать «пресловутого Брака или Поллака» герои «Коллег» не решались и честно приносили их в жертву).
Мальчишки из «Звездного билета» бойко рассуждают о супрематизме, ташизме и всякой другой «модерняге» и уже ни в грош не ставят Тургенева…
Герои «Коллег» терпеть не могли ханжества, и один из них даже встречался с замужней женщиной.
«Убежденные модернисты» из «Звездного билета» клянутся, что любви нет, а есть только удовлетворение половой потребности, заявляют, что с девчонками нечего церемониться, и эпатируют порядочных людей до такой степени, какая и не снилась коллегам.
Ужасная эта бескомпромиссность и впрямь примечательна. Ведь раньше всегда как-то так получалось, что буйный юнец, протестовавший против узости школьного воспитания и ширины брюк на воспитателе, в конце книги изъявлял готовность до некоторой степени умерить свою лютость. Герои «Коллег», которые издевались над «словесами», в конце повести решали дружно изживать свое «неверие и цинизм»… Да и в «Звездном билете» массовое исправление пошло уж было полным ходом, и дерзкий мальчик Юрка, говоривший на жаргоне, заговорил вполне понятным языком, и бородатый мальчик Алик, щеголявший «модер-нягой», уселся за «Анну Каренину», и суровый моряк Баулин, над которым мальчики посмеивались за его железные челюсти и железные принципы, оказался в их глазах чуть не идеалом. Вот только Димка, неисправимый Денисов-младший, кичившийся своей «нелояльностью», все не хотел приобщаться к спасительным принципам. Он упрямо продолжал таскать свои узкие брючки и говорить свои мелкие дерзости. Он боялся потерять то и другое. И недаром. Через полтора года он потерял то и другое — итоги были плачевны. Как только Аксенову пришлось вынуть из своей прозы жало внешнего эпатажа, так тотчас же анемичными куклами повисли герои, застыли серыми силуэтами на белом северном фоне, и не спасли тусклую эту картину брошенные в центр ее яркие оранжевые апельсины, «Апельсины из Марокко». Третья повесть Аксенова была похожа на мину, из которой вынули запал. Но это произошло через полтора года. А еще через полтора, в четвертой крупной вещи Аксенова («Пора, мой друг, пора»), весь этот антураж был как воспоминание. Интеллектуальные споры, артистические кафе, несущиеся мотоциклы… А если сощуриться?.. Все смешно, да, смешно, сплошные банальности… Мальчики спорят, острят, бьются насмерть на своих мотоциклах, но что-то переменилось. Грустноват Аксенов, он, прищурясь, всматривается, словно хочет вспомнить нечто реальное за этим каскадом модного, им же открытого антуража… Он не знает, что же реально, он смутно предчувствует это… «Это огромно», — пишет он. «Мир велик», — пишет он… Роман кончается поэтично и туманно. Стихи. Пушкин. Покоя сердце просит… Интеллектуальные споры, артистические кафе, несущиеся мотоциклы… А если сощуриться? Пора, мой друг, пора.
Но, кажется, мы забегаем вперед. Проследить, чти стало нынче с нашим молодым знакомцем Димкой Денисовым и его друзьями, что стало дальше со всем этим стилем, — для этого нужна еще одна книга. Сейчас мы говорим об истоках, о начале жизненного пути этого юноши. О том, что определило его противоречивое лицо. Противоречия еще скажутся… но в тот момент, когда мы присутствуем при его громком дебюте, — в 1961 году — мины и хлопушки взрываются на каждом шагу и запал действует. Лабуда! Джинсы! Джаз! Спорят, нападают, защищают, решают животрепещущие проблемы: в каком отношении находится джаз к догматизму и означает ли приятие первого борьбу со вторым.
За шелухой напрочь скрывается ядро.
Чайковский или джаз?
Одическая риторика или проникновенная лирика?
Широкие брюки или джинсы?
Шелуха.
Историки, социологи, экономисты обстоятельно и сложно анализируют эпоху. Внешние формы изменчивы: стиль архитектуры и мода на брюки. Одно не обманет: способность личности отвечать за себя, быть собой.
Никакие аксессуары, никакой эпатаж, никакие джинсы не спасут искусства, если оно не продиктовано мыслью о человеке, если оно не занято единственно важным процессом духовного и душевного человеческого распрямления,
Аксеновский юнец самозабвенно черпал это море наперстком. Он переоделся. Он принялся разговаривать проникновенным голосом. Он признал Пикассо гением и кибернетику наукой. И тут выяснилось, что этого мало, что он был лишен чего-то неизмеримо большего, чем гуманитарно-бытовые аксессуары двадцатого века. Быстренько пересмотрев на себе некоторые внешние атрибуты, так сказать, приметы времени, сей бунтовщик обнаружил в душе зияющую пустоту и беспомощность такую, какая даже у кузнецовского мальчика была причиной своего рода беспокойства. Признавшись себе однажды: «Мы никому не нужны!»— герой «Продолжения легенды» хоть ужаснулся. «Во имя чего вообще существуем мы?»— ахнул он. Слабый человек всегда ищет вне себя какой-нибудь стимул. «Выдержать! Выдержать!» — уговаривал себя кузнецовский мальчик, растворяя свой труд в строительстве гигантской плотины, словно отдавая ей себя на заклание. Но на мгновение уже озарила этого мальчика мысль: «Может, ты просто рабочий материал, издержки производства для этого будущего?» Лишь на мгновение; что мог он противопоставить внутри себя этой страшной мысли? Он еще не был готов к ней, он еще не имел себя, он еще был никто… Но он хоть мучался этой мыслью! Димка Денисов, неисправимый герой аксеновского «Звездного билета», семнадцатилетний «модернист», убежавший на Рижское взморье от папы и мамы, — чужд сомнений. Амбиция не позволяет ему взглянуть на себя со стороны. Он упрямо настаивает на своей «независимости», он твердит: «Я не знаю, чего я хочу», он твердит это с первой до последней страницы, словно боясь проговориться, хотя всем ходом сюжета и всею авторской интонацией этот спешно перековавшийся мальчик просвечен насквозь. Только боюсь, неглубока перековка, как несерьезны и претензии.