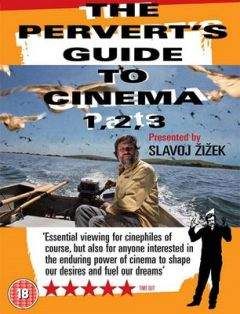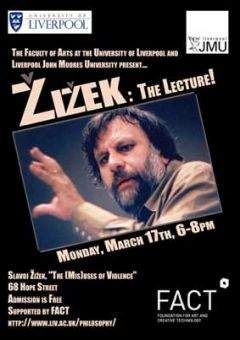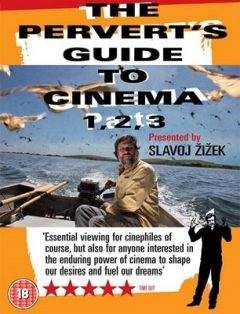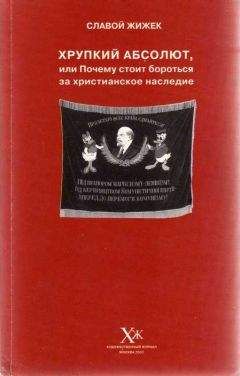1. Введение War nam nihadan
Есть замечательное выражение на фарси war nam nihadan, которое значит «убить кого-то, похоронить его тело, а затем, чтобы его спрятать, вырастить над ним цветы» {1}. В 2011 году мы были свидетелями (и участниками) серии оглушительных событий — от арабской весны до движения «Оккупай Уолл-стрит», от протестов в британских пригородах до идеологического безумия Брейвика. 2011 год был, таким образом, годом опасных грез, причем амбивалентных: были освободительные мечты, мобилизовавшие протестующих в Нью-Йорке, на площади Тахрир, в Лондоне и Афинах; и были темные деструктивные грезы, двигавшие Брейвиком и расистскими популистами по всей Европе, от Нидерландов до Венгрии. Первоочередной задачей господствующей идеологии было нейтрализовать подлинное измерение этих событий: не было ли преобладающей реакцией на них в средствах массовой информации именно «war nam nihadan»? Массмедиа устраняли радикальный освободительный потенциал событий, затемняли их угрозу для демократии и выращивали цветы над зарытыми трупами. Именно поэтому важно как следует разобраться в случившемся, поместить эти события в контекст глобального капитализма в целом, что означает: показать, как происходившее связано с центральным антагонизмом капитализма сегодня.
Фредерик Джеймисон считает, что в любой исторический момент многообразие художественных стилей или теоретических аргументаций можно представить схематически таким образом, что будут заметны тенденции, образующие систему. Чтобы сформировать такую систему, Джеймисон, как правило, полагается на семиотический квадрат Греймаса, и вполне обоснованно: этот квадрат — вовсе не сугубо формальная структурная матрица, ведь он каждый раз строится на некой базовой оппозиции (антагонизме, «противоречии»), а затем ищет пути смещения и/или опосредования этих двух противоположных полюсов. Система возможных позиций образует, таким образом, динамическую схему всех возможных ответов/реакций на некие базовые, структурные, тупики/антагонизмы. Система не просто ограничивает рамки личной свободы: она одновременно и открывает ее пространство; то есть это «в одно и то же самое время свобода и детерминация: она открывает ряд творческих возможностей (которые возможны лишь в виде ответов на ту ситуацию, которую система артикулирует) и отслеживает крайние пределы возможного практического действия, которые также представляют собой пределы мысли, а также проекции нашего воображения» {2}. Джеймисон ставит ключевой эпистемологический вопрос: такая система всех возможных позиций «стремится быть объективной, но никогда не может быть иной, нежели идеологической: ведь глядя на архитектуру, и в правду, очень сложно представить себе, как мы можем отличить реальное существование различных категорий, к которым относятся современные здания, от очевидно вымышленных систем этих категорий. На самом деле эта проблема несколько надуманная: назойливое беспокойство о том, не рисуем ли мы собственный глаз, может в какой-то мере быть смягчено напоминанием о том, что сам наш глаз есть часть той системы Бытия, которая и является объектом наших размышлений» {3}.
Тут мы абсолютно вправе сказать, как Гегель: если реальность не подходит под наши понятия, то тем хуже для реальности. Наша схема, если она адекватна, определяет место формальной матрицы, за которой (несовершенно) следует реальность. Как это уже отмечал Маркс, «объективные» детерминации социальной реальности есть в то же самое время «субъективные» мысли-детерминации (субъектов, заточенных в этой реальности), и в этой точке неразличения (в которой пределы нашей мысли, ее безысходность и противоречия, есть в то же самое время антагонизмы самой объективной социальной реальности) «диагноз реальности является ее собственным симптомом» {4}: наш диагноз («объективное» отображение системы всех возможных позиций, определяющей рамки нашей деятельности) сам является «субъективным». Это схема субъективных реакций на безысходность, с которой мы сталкиваемся в нашей практике, и в этом смысле диагноз симптоматичен для этого состояния безысходности. В чем мы, однако, должны не согласиться с Джеймисоном, так это в обозначении им подобного неразличения субъективного и объективного как «идеологического»: оно является идеологическим только тогда, когда мы наивно называем «неидеологическим» чисто «объективное» описание, описание, лишенное всякой субъективной вовлеченности. Не будет ли более уместным характеризовать в качестве «идеологического» такой взгляд, который игнорирует (не какую-то «объективную» реальность, не искаженную нашей субъективной вовлеченностью, но) саму причину этого неизбежного искажения, то есть реальную безысходность, реакцией на которую выступают наши проекты и дела?
Этой небольшой книжкой я осмеливаюсь внести свой вклад в подобного рода «когнитивное картографирование» (Джеймисон) нашего положения дел. В начале книги я кратко описываю основные характерные черты сегодняшнего капитализма; затем продолжаю очерчивать контуры его господствующей идеологии, специально останавливая внимание на реакционных явлениях (популистских бунтах), возникших как отражение социальных антагонизмов. В следующих двух главах я рассматриваю два великих освободительных движения 2011 года: арабскую весну и «Оккупай Уолл-стрит». Используя в качестве отправной точки сериал «Прослушка» (The Wire), в заключительных главах я подхожу к вопросу о том, как бороться с системой, не способствуя ее улучшенному функционированию.
Инструментом такого описания будет то, что Иммануил Кант назвал «публичным использованием разума». Сегодня более чем когда бы то ни было необходимо помнить о том, что коммунизм начинается с «публичного использования разума», с мышления, с эгалитарной универсальности мысли. Для Канта публичное пространство «мирового-гражданского-общества» указывает на парадокс универсальной сингулярности — единичного субъекта, который, в своего рода коротком замыкании, минуя опосредование частного, непосредственно участвует во Всеобщем. Это то, что Кант в знаменитом отрывке из «Что есть Просвещение?» понимает под «публичным» как противопоставленным «частному»: «частное» есть не индивидуальное, которое противоположно связям общности, но сам общностно-институциональный порядок партикулярных идентификаций человека; в то время как «публичное» есть транснациональная всеобщность в использовании своего разума.
Между тем, не основывается ли эта пара публичного и частного использования разума на том, что мы в более современных понятиях могли бы назвать приостановкой символической эффективности (или перформативной силы) публичного использования разума? Кант не отбрасывает стандартную формулу повиновения «Не думай, а слушайся!», заменяя ее прямой «революционной» противоположностью — «Не слушайся тупо (следуй тому, что другие тебе говорят), а думай (своей собственной головой)!»; его формула — это «Думай и слушайся!», то есть думай публично (в свободном использовании разума) и слушайся частно (как часть иерархической машинерии власти).
Короче говоря, свободное мышление не наделяет меня правом делать что-либо. Ведь по большей части то, что я могу сделать, когда мое «публичное использование разума» приводит меня к распознанию слабости и несправедливости существующего порядка, — это призвать правителя к осуществлению реформ… Тут можно сделать еще шаг дальше и воскликнуть, как Честертон, что абстрактно-непоследовательная свобода мысли (и сомнения) активно препятствует действительной свободе: «Свободомыслие — лучшее средство против свободы. Освободите разум раба в самом современном стиле, и он останется рабом. Научите его сомневаться в том, хочет ли он свободы, — и он ее не захочет» {5}. Но является ли вычитание мышления из действия, приостановка его эффективности, действительно таким ясным и недвусмысленным, как здесь показывается? Не схожа ли тут тайная стратегия Канта (намеренная или нет) с известным трюком в судебных баталиях, когда адвокат делает заявление перед лицом присяжных, которое судья сочтет недопустимым, и укажет присяжным «игнорировать это», что будет невозможно, конечно, поскольку ущерб уже нанесен… Не является ли устранение эффективности в публичном использовании разума также тем вычитанием, которое открывает место для некоторых новых социальных практик? Слишком просто отметить очевидную разницу между кантианским публичным использованием разума и марксистским революционным классовым сознанием: первое нейтрально/отстраненно, второе — «партийно» и полностью ангажировано. Тем не менее «пролетарская позиция» может быть определена именно как точка, в которой публичное использование разума само становится практически эффективным без возврата в «приватность» его частного использования, ведь позиция, из которой оно осуществляется, есть позиция «части, не имеющей собственной части» внутри социального тела [10], является его избытком, который непосредственно выступает как всеобщность — а то, чем является сталинское сведение марксистской теории к служанке партии-государства, есть именно сведение публичного к частному использованию разума.