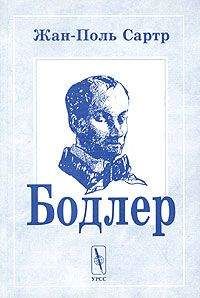Философия свободы, которая рождается на наших глазах, будет философией того же плана, что и марксизм, то есть смесью теории и практики, философией, в которой теория служит практике, но которая принимает в качестве отправного момента свободу. Именно ее, как мне кажется, недостает в марксистской теории.
Термин анархистов «либертарианский социализм» я использую потому, что мне нравится напоминать о несколько анархистских истоках моей мысли. Я всегда был согласен с анархистами, единственными, кто разработал идею совершенного человека, рождающегося в результате социальных процессов, человека, главной особенностью которого будет свобода. Но в вопросах политики анархисты довольно примитивны.
Да и в вопросах теории, при условии, что речь идет строго о теории, и в стороне остаются их выдающиеся интуитивные находки, такие как идеи о свободе и цельном человеке. Иногда они пытались реализовать свои интуитивные идеи; так, они жили сообществом, создав коммуну на Корсике в 1910 году.
Меня назвали экзистенциалистом, и я согласился с этим. Но я не сам выбирал это определение.
Я знаю, что у животных есть сознание, потому что смогу понять их поведение, только допустив наличие у них сознания. Каково же это сознание, что это за сознание, не имеющее языка? Я ничего не знаю о сознании животных. Может быть, в этом удастся разобраться позднее, но предварительно нужно будет больше узнать о сознании вообще.
Все, что говорится о животных, об их психологии, в целом глупо или, по крайней мере, совершенно не связано с нашими познаниями, относящимися к сознанию. Психологию животных нужно разрабатывать заново. Но пока очень трудно сказать, на какой основе это делать.
Я не думаю, что жизнь и сознание – это синонимы. Нет, для меня сознание имеется там, где оно заметно, и есть животные, которые его не имеют, например, простейшие. Сознание появляется в животном мире в определенный момент, оно появляется у человека и, несомненно, у обезьян. Но как оно появляется, и каково оно?
Идеи приходят таким образом: сначала возникает неотчетливая, ничем не подтвержденная мысль, потом ты пытаешься уточнить ее, разработать функции. В итоге ты приходишь к понятию сознания, которое уже не является чистым сознанием-чувством, существовавшим первоначально. Так что сначала появляется то, что я называю не знанием, а интуицией, и настоящее знание в определенном смысле радикально отличается от того, что может дать эта первичная интуиция. Знание уточняет характеристики вещей, которые не были ранее уточнены; знание развивает другие характеристики, отбрасывает некоторые из тех, которые ранее казались очевидными. Конечно, оно сохраняет некоторую связь с первичной интуицией, но это разные вещи.
Я действительно антиприродный философ, но только в определенном смысле. Я знаю, что сначала была природа, которая непосредственно влияла на человека. Несомненно, что примитивные люди имели непосредственные реальные отношения с природой, подобно орангутангу или муравьям. Эти отношения все еще существуют и в наши дни, но они подавляются другими отношениями, которые уже не носят материального характера или, по крайней мере, в которых природа играет иную роль.
Скудость[2] – это не онтологическое понятие, но это и не простое человеческое понятие, не эмпирическая констатация. Понятие «скудость» тяготеет к онтологии, но само не является онтологическим, так как люди, которых мы видим вокруг, не подходят для чисто онтологического изучения или для изучения в плане частных абстрактных идей, как это делают философы или специалисты по частной онтологии. Подобные понятия нужно изучать эмпирически, такими, какие они есть. И в этом случае можно констатировать, что человек буквально окружен нехваткой, будь это игрушка, которую не может получить ребенок, или продукты питания, которые требуются для той или иной группы людей и которые они не получают в нужном количестве. В любом случае есть разница между спросом и предложением, возникающая из самой человеческой природы, когда человек упорно требует еще и еще в условиях ограниченного предложения.
Мы живем в мире скудости, и только время от времени можно представить достижение изобилия при условии, если человек сумеет изменить свои естественные потребности. Не получая того, что нужно ему в одной сфере, человек переносит свои желания в другую сферу. Но в любом случае именно понятие скудости лежит в основе данной концепции.
Скудость всегда есть следствие социального угнетения. Но есть нехватка, которая получается просто от соотношения потребностей человека с получаемым количеством требуемого. Конечно, я имею в виду свободно выраженные потребности, на которые никто не оказал влияния.
В первоначальном смысле объективный недостаток чего-либо это и есть скудость. Желание, воля, необходимость использовать те или иные предметы создают потребность, которая иногда может оказаться неограниченной, в то время как требуемый предмет содержится в ограниченном количестве на данной территории или на всем земном шаре. Следовательно, для меня скудость есть феномен существования, человеческий феномен; естественно, наибольшая нехватка проистекает из социального угнетения. Но в основе последнего всегда находится скудость; мы постоянно создаем вокруг себя поле скудости.
У меня никогда не было морали безразличия. Если что и делает выполнение требований морали затруднительным, то это могут быть конкретные, часто политические проблемы, которые нужно решать. Как я уже говорил в «Святом Жене», я считаю, что в настоящее время мы не достигли такого состояния, наши знания не являются таковыми, чтобы мы могли реконструировать мораль того же уровня ценности, как мораль прежних времен. Например, нельзя создать мораль в соответствии с планом Канта, которая имела бы ту же ценность, что и собственно кантовская мораль. И дело здесь в том, что моральные категории зависят главным образом от структуры общества, в котором мы живем, и эти структуры одновременно не являются ни слишком простыми, ни достаточно сложными, чтобы мы могли создать концепции морали. Мы живем в эпоху, лишенную морали, или, если хотите, когда мораль существует, но она или испорчена, или носит частный характер. Так было не всегда, но сегодня мы столкнулись с этим. Так будет тоже не всегда, но современное положение вещей именно таково. Говоря это, я не отказываюсь от убеждения, что мораль человеку нужна.
Как философ Мерло-Понти всегда обращается к такому типу существа, для анализа которого он вынужден призывать на помощь Хайдеггера; я никогда не считал приемлемыми подобные вещи. Вся онтология, которая вытекает из философии Мерло-Понти, отличается от моей: это гораздо в большей степени континуизм. Я не являюсь настолько континуистом: мне достаточно понятий «в себе», «для себя» и некоторых промежуточных форм, о которых мы только что говорили. У Мерло-Понти идет речь об отношениях с существом, которое коренным образом отличается от моего. Я писал об этом в работе «Живой Мерло-Понти».
Когда мне было 17 или 18 лет, мне всегда твердили, что из критики можно узнать очень много. И я приехал в Париж с хорошими, дисциплинированными, разумными мыслями на эту тему. Я читал критиков, думая: «Чему же они меня научат?» Но они ничему не могли научить меня.
Мысли других философов меня никогда не могли заставить пересмотреть мои идеи. Возможно, я отношусь к упрямым, одержимым философам. Я много читал и видел, что сказать о прочитанном можно многое, а затем я все равно продолжал делать то, что делал раньше.
Я обычно не требую от читателя прочесть у меня все, но критики-специалисты должны находить для этого время. Затем необходимо изложить содержание произведения, решить, распространяется ли точка зрения его автора на всю жизнь или она меняется где-то посередине, попытаться объяснить эволюцию взглядов, разрывы в последовательности мысли, постараться отыскать исходную позицию, что является самым трудным: что я хотел сказать, написав то или иное произведение, почему я решил написать его?
В этом, мне кажется, и заключается смысл критики. Вот книги, вот человек, который написал их. Что это значит? Что это за человек, какие книги он написал? Эстетическая точка зрения представляется мне весьма изменчивой, и именно этот аспект интересен для меня.
Сейчас сообщают гораздо меньше подробностей о жизни людей, о них знают гораздо меньше, чем о людях прошлого века, потому что проблемы сексуальности, проблемы жизни стали глубоко индивидуальными и практически исчезли для посторонних. Например, все, что мы знаем о Солженицыне, относится, в конце концов, ко всей России. Известно, что он был сослан в лагерь; тут же мы начинаем размышлять о лагерях, вспоминаем, что это такое и т.д. Но что касается его привычек – любил ли он кофе? Какова его сексуальность? Все это – полнейшая тайна. Возможно, когда-нибудь удастся по его книгам восстановить некоторые детали его жизни, но нужно, чтобы этим кто-нибудь занялся.