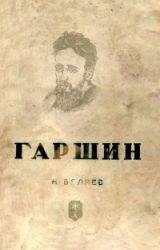Луна сильно светила и озаряла гору, за которою шел бой. Снизу горы линия огней – наша цепь, и сверху другая, более густая линия огней – турецкая; обе эти линии перемешались. Софийцы шли в атаку. Верхние огни вспыхивали все дальше и дальше, все выше и выше. Но мы недолго могли следить за боем, потому что нас отвели куда-то в сторону и положили каждую роту отдельно. Отсюда опять мы увидели огоньки выстрелов. Звуки их, какие-то тупые, деревянные, беспрестанно долетали до нас. Но скоро стали доходить и не одни звуки.
– Ссс… ссс… ссс… – раздавалось в воздухе над нами справа и слева.
– Пуля! – закричал кто-то.
– Ладно! Лежи… Помирать долетают.
Действительно, пули были уже на излете; это всегда слышно по звуку. Пуля близкого выстрела визжит и свистит, а та, которая «помирать долетает», только шипит как змея.
Пули летели и летели. Рота молчала. Напряженное состояние, невольно явившееся при звуке смерти, ослабело; все стали думать, что пули только перелетают или безвредно падают на землю. Некоторые, сняв шинели, устраивались уснуть поудобнее, если только можно удобно уснуть на колеях из засохшей грязи, держа ружье в руках и под пулями. Задремал и я. Тяжела, мучительна была эта дремота… Недалеко от нас, кажется в седьмой роте, вдруг заговорили, загомонили. «Неси!» – услышал я. «Куда уже его нести…» – перебил кто-то; конца фразы я не расслышал. И. Н. послал узнать, что случилось. Оказалось, что пуля, прилетевшая умирать, не захотела умирать одна и попала прямо в сердце солдату. Эта смерть произвела скверное, давящее впечатление: быть убитым, не видя неприятеля, пулею, пролетевшею три тысячи шагов, две версты, казалось всем чем-то роковым, ужасным. Однако мало-помалу все замолчали, успокоились, начали дремать. Негромкий резкий звук разбудил всех: пуля пробила обе барабанные кожи. И кто-то нашелся даже пустить по поводу «шкуры барабанной» шутку, которая, однако, была встречена общим неодобрением. «Нашел время балясничать», – угрюмо говорили солдаты.
Всем было немного жутко, все чего-то ждали. И вдруг раздался крик, но не от боли, а скорее от испуга. Действительно, пуля попала в патронную сумку солдатика, который, бледный и с дрожащим лицом, понес показывать ее ротному командиру. И. Н. внимательно осмотрел пулю и, заметив, что она четырехлинейного калибра, из ружья Пибоди и Мартини, перевел роту в какую-то выемку дороги.
Здесь мы, несмотря на свист и шипенье, успокоились. На горе раздавалось наше «ура!». Это софийцы штурмовали гору.
Я проснулся, когда было еще почти темно. Бока болели невыносимо. Пули летали по-прежнему, но теперь уже очень высоко в воздухе, над нами. Огоньков на горе не было видно, но стрельба слышалась частая. «Значит, гора взята и софийцы держатся на гребне», – подумал я.
Чуть встало солнце, нас подняли. Солдаты, кряхтя и зевая, вставали. Было холодно; большинство, продрогнув, тряслось как в лихорадке. Роты собрались у фонтана, и оба наши батальона (2, и 3) двинулись к горе.
Тотчас же после того, как – мы перешли Лом по небольшому мостику, дорога пошла в гору. Сначала подъем, хотя и весь покрытый кустами, был сносен, но чем выше мы поднимались, тем круче становилась покатость, тем уже дорога. Наконец мы были принуждены взбираться поодиночке, иногда подпираясь ружьями. Роты перепутались.
Среди нас, вместе с офицерами другого батальона, очутился наш полковник, с трудом взбиравшийся на высоты.
– Вот мучительная гора, – сказал он своему адъютанту: – как это софийцы умудрились взять ее!
– Трудно, ваше высокоблагородие! – промолвил какой-то крохотный солдатик из самой низенькой, 8-й роты.
Софийцы спускались с горы, так как мы шли им на смену. Измученные бессонною ночью, и жаждой, и нервным напряжением, они едва брели, ничего не отвечая на наши расспросы: много ли турок, силен ли огонь. Только некоторые тихо говорили: «Дай вам господи! И-и-и, как жарит!»
Наконец мы добрались до вершины горы. В самом конце подъем переходил в совершенно отвесную скалу; под нею была небольшая площадка, где роты могли построиться в безопасности от выстрелов. Несмотря на то, что трудный подъем, кусты, узкая дорога совершенно перепутали нас, люди разобрались и стали на места чрезвычайно быстро. Пули, перелетая через скалу, визжали над нами пронзительно и крайне неприятно. Здесь, под скалой, было безопасно, но каково было на ней? Ветви кустов, растущих на гребне, трещали, сломанные пулями, иногда несколько листьев сыпалось сверху. Мы двинулись вправо, сначала под обрывом, потом мало-помалу стали вскарабкиваться по одному человеку с камня на камень. Обогнув скалу, мы вылезли совсем наверх и двинулись между густых и высоких кустов. Кто нас вел – не знаю; все шли по направлению выстрелов, с трудом пробираясь между кустами. Вот, наконец, и узенькая дорожка. Вперед! Бегом! Тут уже лежали свежие трупы наших и турок, навстречу нам уже несли раненых. Солдатик восьмой роты, так смело вступивший в разговор с полковым командиром, брел сам, жалобно воя и придерживая одной рукой другую, из которой ручьем текла кровь. Мы всё бежали и бежали и, наконец, очутились на открытом месте. Наш маленький и худощавый майор Ф. уже был на месте и хладнокровно расхаживал по цепи.
– Куда идти, господин майор? – спросил я.
Он молча показал саблей налево. Я побежал туда, по дороге раз припавши к земле от рвущейся гранаты. И. Н. медленно прогуливался, пощипывая свои одинокие волоски.
– И. Н.! – закричал я ему: – я не знаю, где наш полувзвод; позвольте в первый?
– Идите, идите скорее, – сказал он, поглядывая вдаль, на турецкие линии.
Однако ни первого, ни второго полувзвода отыскать было невозможно: в лесу все перепутались, а разбиться под пулями и гранатами было поздно. Я улегся за первым попавшимся бугорком земли и начал стрелять. По одну сторону, рядом со мною, лежал наш капральный, по другую – солдат Софийского полка.
– Вы бы ушли, земляк, – сказал я ему, – ведь ваш полк спустился.
– Да уж все одно, постоим до конца! – отвечал он. Не знаю, как зовут его, не знаю даже, жив ли он, но всегда буду помнить торжественный тон его голоса.
Турецкие стрелки были от нас шагах в восьмистах, так что наши ружья вряд ли делали им большой урон. Кроме того, целый ряд турецких орудий стоял от нас шагах в 1200–1500 и засыпал нашу слабую цепь гранатами. Хотя пули убивают и ранят гораздо больше, но сильнейшее нравственное действие производят гранаты. Я лежал, понемногу постреливал, советуясь иногда с Павлом Игнатьевичем (капральный) о высоте прицела и не стрелять ли нам на авось в артиллерию. Пули визжали все чаще и чаще, наконец отдельных выстрелов вовсе не стало слышно: все слилось в какое-то жужжанье. Гранаты летели, визжа, издали; когда они приближались, то уже не визжали, а скрежетали и хлопали, разрываясь и обдавая людей осколками и землею. Я приподнялся посмотреть, что делается у нас в цепи. Лежавшие изредка дико вскрикивали, стоявшие за деревьями и на коленях падали иногда с криком, иногда молча. Гаврило Васильич только что выступил и, заряжая ружье, повалился ничком: осколок гранаты ударил ему в пах, вырвав внутренности. Раненые, кто мог, уползали, большею частью молча; впрочем, быть может, их крика и не было слышно за шумом боя.
Я начал стрелять снова. Турки собрались внизу котловины, на другом краю которой стояла их артиллерия, в колонны и шли на наши цепи в атаку. Прицеливаться стало ближе. Павел Игнатьевич методично заряжал и стрелял. Я также не жалел патронов, потому что целить было удобно. Темные фигуры с красными головами, шедшие на нас, падали, но все-таки шли. Вдруг красные головы исчезли: не знаю, неровность ли почвы или кусты закрыли колонну. Потеряв цель вблизи, я снова стал стрелять вдаль, в массы, стоявшие на дне котловины, и едва успел заметить, что и Павел Игнатьевич и софийский солдат исчезли, и всей нашей цепи уже не было. Я обернулся назад: солдаты сбежались в кучки и жарким ружейным огнем встречали наступавших турок. Я был один между нашими и турецкою колонною.
Что мне было делать? Не успел этот вопрос мелькнуть в голове, как около меня раздалось мое имя. Я опустил глаза – у моих ног лежал Федоров, молоденький солдат нашей роты, побывавший в Петербурге, хвативший цивилизации и выражавшийся почти литературным языком.
Теперь он лежал белый, как эта бумага; из разбитого плеча волною текла кровь.
– В. М., батюшка, дайте пить. Унесите, унесите, – жалобно просил он.
Я забыл все – и турок и пули. Одному мне нечего было и думать поднять рослого Федорова, а из наших никто не решался выскочить на тридцать шагов, даже для того, чтобы поднять раненого, несмотря на мои отчаянные вопли. Увидав офицера, молоденького прапорщика С, я начал кричать и ему:
– П. П., помогите! Никто не идет; помогите хоть вы! Может быть, С. и пришел бы, но пуля свалила его.
Я чуть не заплакал… Наконец два солдата, кажется нашей роты, кинулись ко мне. Мы взяли Федорова, не перестававшего жалобно повторять: «унесите, голубчики, Христа ради», – я за ноги, двое за плечи; тотчас же они опустили его на землю.