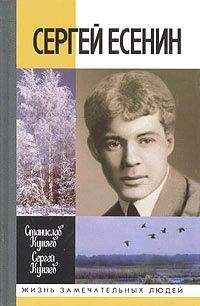На этот раз нам нужно постараться избежать второй ступени ловушки: не соглашаться с усилением полицейских мер, не соглашаться с паспортным контролем, не соглашаться с нарядами милиции и блокпостами на улицах. Конечно, не соглашаться с ведением беспощадной войны против мирного населения Северного Кавказа. И записать в свои личные враги Охотников и их российских пособников — тех, кто на детской крови хочет припахать Россию к иудео-американской "коалиции против террора".
Исраэль ШАМИР
Люба БАЛАГОВА Я МУСУЛЬМАНКА
1.
Я горечи своей не утаю —
Убийцы веру пачкают мою.
И вот при светлом имени Аллаха
В глазах людей я вижу тени страха.
Я мусульманка, мать, жена, сестра,
И скорбь в моей больной душе остра.
И плачу, плачу я до спазмов в горле,
Когда другая мать рыдает в горе.
Как не понять рыдающую мать?
Мне, матери, как можно не понять?!
"Убит, убит..." — несётся по планете,
"Убит, убит...", а это наши дети.
Не для смертей нелепых, не для бед
Мы их вели на этот белый свет.
Все тяготы житейские осилив,
Мы их под сердцем бережно носили.
И сердце разрывается, болит,
Когда я слышу страшное "убит".
О люди, я клянусь вам на Коране,
Убийцы — нет, они не мусульмане.
Их жизнь — не жизнь, сплошной кровавый бред,
Для них ислама нет, Аллаха нет.
2.
Я мусульманка. Мой Господь — Аллах,
Он ясный свет зажег в моих глазах.
А ты, ты веры не моей — другой,
Но я поговорить хочу с тобой.
Хотя, конечно, рассуждать о вере,
Как о любви, смешно по крайней мере.
Я мусульманка. Я дитя любви,
Ее восторг я чувствую в крови.
Люблю весь мир земной и неземной,
Тебя, с твоей религией иной,
И с языком, на горский не похожим,
Люблю погожим днем и непогожим.
Сегодня я зову тебя в свой дом,
Для гостя всё всегда найдется в нем.
Вот стол, вот паста — наш адыгский хлеб,
И взгляд наш подозрительный нелеп.
Зато так просто быть самим собою
В жилище, что наполнено любовью.
В моем саду деревья и цветы
Полны нерукотворной красоты.
Но вся бы эта прелесть пала в прах,
Когда б отвел любовь свою Аллах.
С его любовью жить и думать легче
И понимать, что мир велик и вечен.
Вот ребятишки забежали в дом,
Смотри, каким глаза горят огнем,
Огнем любви горят, огнем добра...
Как беззаботна детская пора!
Я о счастливых судьбах их мечтаю
И в этом на Аллаха уповаю.
Нет, тот не мусульманин, кто несет
Вражду и недоверие в народ.
Аллах — любовь. Кто думает не так,
Тот дьявол во плоти и людям — враг.
Твержу, твержу себе, как заклинанье:
— Убийцы — нет, они не мусульмане.
Я мусульманка, люди. Мой намаз
За светлый мир, за вас, за всех за нас.
Мой голос — он от сердца, от души,
О человек, молю,— не согреши.
Пусть между нами не проляжет бездна.
Аллах — любовь. Вражда всегда от беса.
Перевод с балкарского Игоря ЛЯПИНА
В то лето после неудачи на вступительных экзаменах я путешествовал по стране. В приемной комиссии мои рисунки имели некоторый успех, но живопись показалась недостаточно живой, и мечта об учебе в мастерских лучших художников должна была остаться пока лишь только мечтой. Ресурсы родителей и бойкость моего карандаша способствовали успешному продвижению по городам и весям тогда еще бескрайней страны. Еще и потому я не задерживался долго на одном месте, что, несмотря на самоочевидные успехи моей графики, холсты, хотя и имели безусловное сходство с изображаемым, однако, оставались вялыми, робкими и, как я не старался, скучными даже автору. Мне казалось, что я должен найти свой Таити, где этюды заиграют красками и солнцем, и я искал.
В августе я оказался в благословенной Бессарабии.
Миновав Днестр, мой возница получил щедрый гонорар, а я — ощущение аромата предстоящего.
Первый день тянулся однообразно-долго — пыльные пейзажи за окнами междугородних автобусов, грязные столовые с неизбежными мухами в компоте, недорогие плоды и сладкое вино, без труда добываемые у добродушных и неторопливых хозяек.
На утро следующего дня мы въехали в "Виноградную чашу". Она представляла собой долину, окруженную холмами, живописно покрытыми виноградниками и инспектировавшуюся анемичными пятнами низких облаков. Крепкие дома и хозяйственные постройки говорили о трудолюбии и достатке сельчан. Приняв решение здесь задержаться, я и не предполагал, как оно изменит всю мою жизнь.
Остановился я у местного агронома — крупного и медлительного мужчины с густыми черными бровями, левая из которых выгибалась вверх, а правая, несмотря на все усилия хозяина, — вниз, что придавало физиономии, в зависимости от поворота головы, то вопрошающий, то драматический вид. Его семья состояла из жены — на редкость подвижной, но рано поседевшей невысокой женщины и дочерей-двойняшек лет семнадцати: красавицы Анжелы и неулыбчивой, несколько тяжеловатой Габриэлы.
Выделенная для меня угловая комната, хотя и была небольшая, но вполне удовлетворяла возможностью наиболее полно использовать для работы световой день. Днем в ней не было слишком солнечно, вечером же из окон я мог наслаждаться пряными красками южного заката.
Поднимался я рано утром, вместе с хозяевами, выпивал пару сырых яиц и, закусывая яблоком, торопился на этюды. Наиболее частыми героями этюдов становились выбеленные стены домов с тенями от соседних построек и деревьев; другую часть составляли работы, изображавшие игры солнечных лучей с листьями, ветвями и гроздьями винограда, благо материала для исследования было предостаточно. Возвращался я к сиесте, плотно обедал и проводил пару часов в объятиях безмятежного юношеского сна. Проснувшись, во дворе рядом с душем, избегая труда залить его после посещения, просто выливал на себя ведро теплой воды. Затем посвящал себя доработке утренних впечатлений, ужинал и вновь работал в мастерской. Теперь, с высоты прожитых лет, понимаю, что излишне отшлифовывал свои работы, не использовал все возможности цвета, терялась свежесть, непосредственность, но тогда казалось, я таким образом шаг за шагом приближался к классическому совершенству и простоте.
Образ жизни я вел достаточно замкнутый, работал много, и это отнимало силы и время. Поскольку сюжеты для работ находились недалеко от мастерской, то и прогулки в окрестностях были нечастыми моими развлечениями. Самым замечательным, что мне удалось из них извлечь, было впечатление от спрятавшейся за рядом восточных холмов не очень широкой реки, протекавшей совсем в ином ритме, нежели окружавшая жизнь.
Иногда я спрашивал себя, что же было примечательного накануне, чем предыдущий день отличался от текущего, но ответа, увы, не находил. Дни проходили медленно, тихо, без надрывов, словно те сдержанные цветовые пятна, что ложились на мои холсты. Порою я задумывался о мимолетных, а когда и нескромных взглядах, которые мне удавалось перехватить при встречах с местными смуглыми и глазастыми девчонками, об их волнующем шепоте на своем мягком и музыкальном наречии, отвлекавшем, когда они наблюдали за моей работой. Должен признаться, что в те времена я мало внимания уделял сверстницам, стеснялся их, а завести первым с ними разговор было просто выше моих сил. Впрочем, в ночные минуты сладострастных грез в моем воображении явственно представали пропитанные солнцем, рано созревающие в этих местах девичьи тела. Но, пробудившись утром, я уже не вспоминал о ночных фантазиях, смотрел в календарь, но он ничем не мог мне помочь — течение времени для меня остановилось.