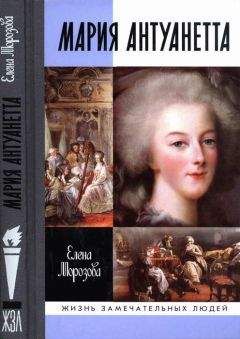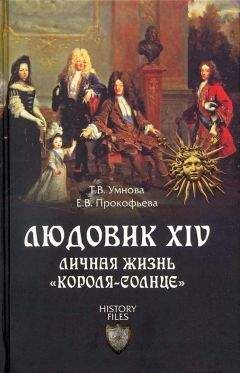Король под ножом Сансона: такое зрелище должно было вызвать в жизни самые смелые планы. Чего только ни замышлялось в таинственности этой ночи? Мрак благоприятствует заговорам. И вот Комитет общественной безопасности предписывает, чтоб освещены были все окна. Распоряжение это было обязательным. Но оно не исполнялось. Фасады остались темными. Только все-где, там и сям, виднелись за рамами огоньки от свечей, зажженных точно над покойником при чтении отходной. А o каких только заговорах ни доносилось тогда? Говорили об отряде в 800 чел., которые должны, по условному сигналу и на определенном пункте, собраться с целью похитить короля. Эта цифра, передававшаяся из уст в уста, росла – 800 превратились в 6.000, которым, как рассказывалось тогда, заплатили за возбуждение соболезнования в народе. Ведь этот народ в сущности добрый и легко поддается милосердию. Даже Сантерр, тот самый пивовар, который с толпой в 20.000 чел. вторгся в Тюльери 20 июня 1792 г., склонен был поверить этому.
В действительности делались лишь чисто ребяческие попытки, чтоб предотвратить цареубийство, «Breviare des dames parisiennes» напомнил торговкам центрального рынка о милостивом приеме, сделанном им королевой и королем за букет, который они как-то подносили ей: «Пусть же в будущий понедельник освободится Людовик!» Но торговки, эти ужасные кумушки, могли увезти короля из Версаля, но не взялись бы за похищение его с эшафота. На своей сходке они объявили, что не поддадутся разным россказням. они не выйдут даже на рынок, а останутся дома.
Было всего более уместно ожидать такой попытки от «врагов, взбешенных отчаянием», как выразился тот же Сантерр, которому предстояло принять на себя ответственность за столь тягостный день. Судя по его переписке с исполнительным комитетом, он бодрствовал и не спал ни минуты. Он осматривал посты по ночам, лично удостоверялся в нравственном состоянии секций, 48 парижских секций, ведавших дело подстрекательства низших классов к мятежам, и находил их вполне солидарными между собой. «20 тысяч разбойников Кобленца, – говорил он накануне 21 января, – не в состоянии произвести в Париже ни малейшего возмущения». Но увенчается ли успехом его уверенность, основанная на силах, какими он располагает? Пушки, расставленные на всех перекрестках, резервы во всех подходящих для них зданиях, непрерывная двойная изгородь на пути, по которому вот сейчас должен проследовать мрачный кортеж. Сто тридцать тысяч человек поставлены были на ноги ради одного человека, которого вели на смерть. Можно было делать вид, что все обстоит благополучно. Но это благополучие только поверхностное. На самом деле очень боялись чего-то.
Но что же делал тот, из-за которого мобилизовалась эта армия, в час предшествовавший роковой минуты казни? Он спал. Вчера, ложась в постель, он сказал Клери: «Клери, вы меня разбудите в пять часов!»
Как только пробило пять часов, Клери, предоставивший свое ложе аббату де-Фирмонт и расположившийся в кресле, поспешил зажечь огонь. Произведенный им шум пробудил короля. Последний отдернул свой занавес и спросил: «Разве пробило уже пять часов?»
– «Государь, пробило уже на многих часах, но не на стенных».
Король приподнялся на локте и тоном беззаботным, довольным проведенной ночью, сказал: «Я спал хорошо, мне это надо было. Вчерашний день утомил меня». Король тревожно спросил, где же аббат Эджеворт, который должен был принять от него последнее покаяние. Потом он встал. Во время своего туалета он сам вынул из кармана печать и положил ее в карман своего жилета, часы положил на камин, снял с пальца перстень, посмотрел на него несколько раз и присоединил в печати, переменил белье. И все это делал он так хладнокровно, что приставленные для надзора за ним муниципальные чиновники поражались его спокойствием, Из кармана он вынул свой бумажник, лорнетку, табакерку, а на камин положил кошелек. Туалет окончился. Блери мог пригласить исповедника.
Король готов был слушать мессу, но не было никого, кто бы мог совершить ее. Блери предложил свои услуги. Он хотел уже читать ответствие хора в молитвеннике на странице, которую укажет ему король… В то время, как аббат облачался, король сам устранил, как излишнюю роскошь, подушку, приготовленную для его коленопреклонения.
Вошел священник. Муниципальные чиновники удалились. Клери притворил одну половинку двери. Было 6 часов. Началась месса. Алтарем служил комод. Эта величественная церемония совершалась в тиши. Король на коленях сокрушался о своих грехах, каялся униженно и столь же спокойно в этой тюремной камере, словно готовился принять Святое Причастие в своей Версальской капелле, окруженный придворной толпой.
Роковая минута приближалась. Но король нисколько не взволнован. Его сердце продолжает биться правильно, его пульс ровный, лицо сохранило ясность. Он подозвал Клери в амбразуру окна и сказал ему: «вы передадите эту печать моему сыну, это кольцо королеве. Скажите ей, что мне тяжко расстаться с ней… В этом маленьком пакете лежат волосы всей моей семьи, вы и его передайте ей также. Скажите королеве, моим дорогим детям, моей сестре, что я обещал повидаться с ними сегодня утром, но я пожелал избавить их от горя столь жестокой разлуки… Чего мне стоит отправляться без их последних объятий!»
Семь часов. Раздается треск оружия и пушек. Гул в народе, возрастающий с минуты на минуту, вздымается точно какая-то гроза… Но готов ли гражданин-палач? Надо думать, что да. Он до мелочей принял все предосторожности. Как только дано было распоряжение казнить Людовика Капета, в виду того, что эта казнь должна отличаться от других в некоторых пунктах, палач накануне её написал гражданину, исполнявшему обязанности генерал-прокурора синдика департамента следующее письмо:
«Гражданин, я только что получил распоряжение, мне присланное вами. Я приму все меры, чтобы не случилось никаких промедлений относительно того, что предписывается им. Плотник предупрежден об установке его машины, которая будет находиться на площади в указанном месте. Мне решительно необходимо знать, как Людовик уедет из Таниля. Будет ли для него особый экипаж или это совершится в обычной повозке, предназначенной для казней этого рода? После казни как поступать с телом казненного? Надо ли, чтобы я и мои люди находились в Таниле в 8 часов? В том случае, если не я повезу его из Таниля, на какой площади и в каком месте надо мне быть? Все это не выяснено в распоряжении, и было бы кстати гражданину, исполняющему должность прокурора синдика департамента, соблаговолить возможно скорее доставить мне эти сведения, тогда как я приму меры, необходимые к тому, чтобы все было исполнено пунктуально.
Гражданин Сансон,палач уголовных судов».
Ле-Брэнь, председатель временного исполнительного комитета, ответил ему, что карета мэра повезет Людовика Капета из Таниля на место казни, где палач должен находиться со своими людьми.
Палач осмотрел свой нож. Все было готово. Эшафот ждал.
С 5 часов утра Париж находился под ружьем. Главный совет Коммуны предписал главнокомандующему «разместить в понедельник утром 21 в 7 часов на всех барьерах вооруженную силу, достаточную для того, чтоб помешать какому бы то ни было собранию людей, с оружием или без оного, войти в Париж или выйти из него». Секции поставили на ноги и вооружили всех граждан, за исключением чиновников. Все комитеты секций были в полном сборе. Париж никогда не видел такого баснословного скопления вооруженных сил, Цифра этой городской армии считается не менее 130.000 человек. Из 250 пушек Парижа 96 приготовились палить по первому сигналу. Их угрожающие жерла стоят отверстыми. Дисциплина на постах строжайшая. «Исключительные обстоятельства, – сказал Сантерр, – требуют непреклонных строгостей».
Но трудно без шума перемещать артиллерию и легионы. Необычайное движение этих людей, собирающихся для того, чтоб составить железный канал, по которому потечет это шествие, ясно слышится и в королевском заточении. Король без малейшего волнения говорит своему исповеднику: «это вероятно начинают собирать национальную гвардию». Немного спустя отряды кавалерии вступают во двор Таниля и ясно различаются голоса офицеров и металлические шаги лошадей. Король прислушивается и с тем же хладнокровием говорит: «Они приближаются». В это время он сидел у печи, греясь и жалуясь на холод, от которого видимо дрожал.
Под разными предлогами, с семи до восьми часов, стучались в дверь комнаты, где король беседовал с своим исповедником и каждый раз аббат Эджеворт дрожал, боясь наступления роковой минуты. Ему захотелось узнать цель этих посетителей. Оказалось, что они удостоверяются, не покушается ли король на самоубийство. Об этом всего больше заботились в последние часы его жизни. Ведь нации обещали голову короля и хотели дать ее непременно. Но Людовик XVI и не помышлял о самоубийстве, а страх перед своими врагами он считал для себя унизительным: «эти господа очень плохо знают меня, – сказал он, – убить себя было бы слабостью. Нет, я сумею хорошо умереть, так как это нужно».