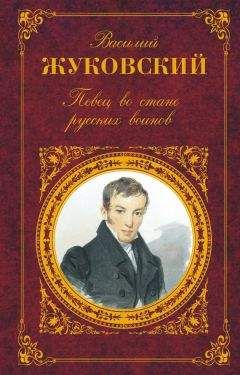5.
Через год Наполеон форсировал Неман, и его войска бодрым маршем двинулись в глубь России, практически не встречая сопротивления в первые недели войны. Александр I срочно поменял главнокомандующего, назначив на место холодного и необщительного Барклая-де-Толли фельдмаршала Кутузова любимца армии. По всей стране шло формирование партизанских отрядов и народного ополчения. В рядах московских добровольцев - Вяземский, Грибоедов, Лажечников, Жуковский. Василий Андреевич зачислен поручиком 1-го пехотного полка Московского ополчения. Он принимал участие в Бородинской битве и в сражении под Красным; работал в походной типографии своего друга и однокашника, профессора Дерптского университета Андрея Кайсарова; составлял деловые бумаги для самого Кутузова, за что тот прозвал поэта "златоустом"; провел месяц в Орле, куда был направлен закупить лошадей и продовольствие для русской армии, а также договориться о размещении тысячи раненых солдат и офицеров и где увиделся с Екатериной Афанасьевной, с Сашей и со своей любимой Машенькой... Когда, несколькими неделями позже, он завершит "Певца во стане русских воинов", тут же распространившегося по всей России, там будут и такие строки:
Она на бранных знаменах,
Она в пылу сраженья;
И в шуме стана, и в мечтах
Веселых сновиденья.
Отведай, враг, исторгнуть щит,
Рукою данный милой;
Святой обет на нем горит:
"Твоя и за могилой!".
Эти слова обращены к той единственной, которая вдохновила его на подвиг и чью земную жизнь он защищал от смертельной опасности. А последняя строка - их с Машей тайный девиз.
В декабре Жуковский заразился тифом, в беспамятстве - между жизнью и смертью - провел месяц в госпитале в Вильно. Русская армия двигалась дальше на Запад, Вяземский и Александр Тургенев сбились с ног, разыскивая по всем полкам пропавшего Жуковского. Маша, проводившая бессонные ночи у постелей раненых, не находила себе места от волнения за любимого, не получая от него писем... Жуковский, выздоровев, узнал, что ему присвоено звание штабс-капитана и он награжден боевым орденом Святой Анны 2-й степени. По болезни он получил бессрочный отпуск и в январе 1813 г. приехал в Муратово, родовое именье своей названой матери, с твердым намереньем добиться во что бы то ни стало разрешения Екатерины Афанасьевны на брак с Машей. Шел восьмой год его неугасимой любви.
6.
Но Екатерина Афанасьевна ни на шаг не отступила от своих принципов. Свой отказ она мотивировала тем, что Мария Протасова, ее дочь, и Василий Жуковский, ее брат, были близкими родственниками. Это отчасти правда. Но только отчасти. Во-первых, кровными родственниками они были только по отцу; во-вторых, подобные браки, например между двоюродными братьями и сестрами, в дворянских семьях не были редкостью; и в-третьих, они были родными что называется de-facto, a de jure, по бумагам, они были абсолютно чужими: отцом Василия Андреевича записан дворянин Киевской губернии Андрей Жуковский, а вовсе не его родной - Афанасий Иванович Бунин. Екатерина Афанасьевна писала Жуковскому: "Тебе закон христианский кажется предрассудком, а я чту установления церкви".
К кому только ни обращался Жуковский за помощью! Все были на его стороне, убедить Екатерину Афанасьевну поменять свое решение и дать разрешение на брак пытались ее племянница Авдотья Петровна Киреевская, соседи по поместью Плещеевы, брат покойного мужа Павел Иванович Протасов, сенатор Иван Владимирович Лопухин, орловский архиерей Досифей и даже петербургский архимандрит Филарет. Как мы видим, даже высшие представители церкви были не против этого брака и готовы были обвенчать Жуковского и Машу Протасову. Однако Екатерина Афанасьевна неколебимо стояла на своем: "Голову поэта мудрено охладить, он уже так привык мечтать; да и в законе христианском всё, что против его выгоды, то кажется ему предрассудком. Следовательно, он сочиняет его таким, какой для его удовольствия нужен; а я для них никогда не предпочту временного вечному". И два года спустя она ни на йоту не изменила своей позиции, придерживаясь, по выражению Василия Андреевича, "какого-то жестокого фанатизма": "Я говорила с умными и знающими закон священниками; никто не уничтожил нашего родства с ним. Родство наше признано церковью. Ни один священник венчать не станет сына моего отца с моей дочерью. Ежели Василий Андреевич подкупит попа, или каким-нибудь другим образом согласятся их обвенчать, то таинством ли это будет? Скажите, как я позволю брак сей?.. Вы говорите, что дело идет о счастии, а может быть о спасении жизни, в таком случае можно предрассудок оставить. В этом я с вами согласна. Но неужели вы называете предрассудком повеление моей церкви, которой главою есть Христос, в которой я воспитана? И так вы думаете, что я должна переменить закон в удовлетворение страсти Василия Андреевича?" Что же двигало в действительности нежелением Екатерины Афанасьевны дать благословение на брак? Понятно, что соображения христианских законов для нее не более чем повод в отказе (ведь даже архимандрит Филарет подтверждает возможность совершения таинства бракосочетания!). Наверное, ее с самого начала возмутила "наглость" младшего незаконорожденного ("плод греха") брата, посмевшего просить руки ее законорожденной дочери. Она помнила его маленьким(когда он родился, ей было 10 лет), весело бегавшим по просторным залам барского дома - ее родового гнезда, воспитывавшимся, как ей казалось, из жалости, а ведь мать его была всего лишь крепостной, да еще иноземкой! И его должны были записать в крепостное состояние, а вот благородство ее родителей, Марии Григорьевны и Афанасия Ивановича Буниных, сделало его и дворянином (пусть формально, de jure), и учеником Московского Университетского Благородного пансиона (мыслимое ли дело для крепостного!), и даже рантье (10 000 руб., выделенных Марией Григорьевной из наследства дочерей). И вот вместо вечной благодарности за все благодеяния, вместо смиренного уничижения перед барской снисходительностью он имеет наглость требовать руки ее любимой дочери. Нет, нет и нет!
В связи со всеми этими хлопотами, да и просто отдохнуть от суетной петербургской жизни, к Жуковскому приехал его старинный друг, однокашник и стихотворец Александр Воейков. Увидел прелестную 18-летнюю Сашу Протасову, которую Василий Андреевич в стихах назвал "гением чистой красоты" (потом, спустя десятилетие, Пушкин использует эту метафору применительно к Анне Керн, чем и обессмертит ее), влюбился без памяти и тут же сделал предложение. Екатерина Афанасьевна дала свое согласие на брак. Но свадьба откладывалась, так как у невесты не было приданого, и тогда Жуковский продал свою деревеньку Холх и вырученные деньги отдал на приданое своей бывшей ученице. А в качестве свадебного подарка Василий Андреевич создал балладу "Светлана" - одно из самых светлых своих произведений. И в 1813 г. многих новорожденных дворяночек чувствительные мамы нарекли этим именем, подобно тому, как 15-ю годами раньше называли Лизами - в честь Карамзинской "Бедной Лизы".
После продажи Холха Василий Андреевич остался без крыши над головой: его двухэтажный домик в Белеве за два года до этого был продан родственникам Протасовых; конечно, Жуковский мог жить там по-прежнему, его библиотеку и спальню в верхнем этаже оставили в неприкосновенности, но поэт предпочел переселиться к одной из своих единокровных племянниц, Авдотье Петровне Киреевской, с которой у него сложились теплые дружеские отношения, и вновь занялся преподаванием - он стал домашним учителем ее детей: 8-летнего Ивана и 6-летнего Петра (в будущем известных славянофилов братьев Киреевских).
Тогда же Жуковский выхлопотал для Воейкова место профессора в Дерптском университете, куда тот и переехал вместе с тещей и свояченицей, т.е. с Екатериной Афанасьевной и Машей.
7.
Вообще этот год, 1815, можно считать судьбоносным для Жуковского. Во-первых, Маша переезжает в Дерпт, где через восемь лет встретит свою смерть. Во-вторых, весной Н.М.Карамзин представляет Жуковского ко двору. И очень скоро поэт станет высокочиновным придворным, оставаясь при этом тем же веселым и сострадательным человеком, заступником перед императорами за гонимых, сосланных, отверженных. Как отметит Вяземский в одном из стихотворных посланий, "Жуковский во дворце был отроком Белева: он веру и мечты, и кротость сохранил". Он будет просвещенным воспитателем и учителем Великого князя Александра Николаевича, будущего либерального реформатора. В-третьих, летом в Царском Селе Василий Андреевич знакомится с 16-летним Пушкиным. Искренняя дружба и глубокое взаимопонимание между ними сохранятся до конца дней. Наконец, осенью в Петербурге по инициативе Сергея Уварова (в то время - вольнолюбивого попечителя учебных заведений Петербургского округа, а через 20 лет - реакционного министра просвещения, автора пресловутой теории "официальной народности") возникает "Арзамас" - веселое литературное сообщество молодых талантливых поэтов: К.Батюшкова, П.Вяземского, Д.Давыдова, В.Л.Пушкина, Д.Дашкова, Д.Блудова, Ф.Вигеля, А.Тургенева, юного Пушкина и мн.др. "Арзамас" отражал литературную борьбу того времени: столкновение "шишковистов", стилистических "староверов", и "карамзинистов", новаторов - чьи позиции и отстаивали, искренне смеясь, члены сообщества. Встречи их начинались с чтения шуточного "некролога" одному из членов "Бесед любителей русского слова", объединявших "шишковистов"; все присутствующие надевали красные колпаки - знак свободолюбия; у каждого было свое "тайное" имя (настоящими именами "запрещалось" пользоваться на собраниях), взятое непременно из баллад Жуковского (например, сам Василий Андреевич прозывался "Светлана", Батюшков - "Ахилл", Вяземский - "Асмодей", В.Л.Пушкин - "Вот", А.Тургенев - "Эолова Арфа", лицейский Пушкин - "Сверчок" и т.д.); протоколы писались в стихах; заседания проходили в самых неожиданных местах, даже в каретах на пути из Петербурга в Царское Село; под конец съедался великолепный жареный гусь одним словом, это были остроумные, жизнерадостные молодые (и не очень) люди, собравшиеся поговорить о серьезных вещах "несерьезными" словами, и душой этой замечательной большой компании был Жуковский.