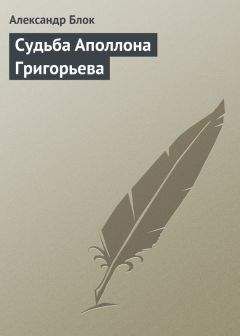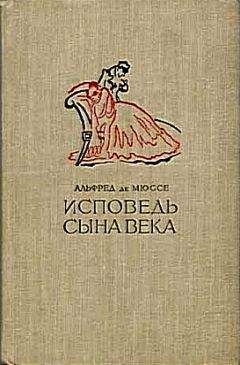«Он сам не знает, чего хочет!» – говорили про Григорьева.
Один молодой и умеренный либерал, не совсем дурак, но, конечно, и не умный, сказал мне в Петербурге: «Охота Вам читать эту мертвечину – Ап. Григорьева!»
Я скоро после этого перестал с ним видеться, так он мне стал гадок своей казенной честностью, казенными убеждениями, казенной добротой, казенным умом.
Не порок в наше время страшен – страшна пошлость, безличность! Безличность бытовая, безличность, согнутая под ярко-национальное ярмо, почтенна и плодоносна, но бесплодна и жалка наша общеевропейская пошлость!
Чтобы было яснее понятие этой общеевропейской пошлости, я вспомню одну статью из-за границы, напечатанную лет пять-шесть тому назад в какой-то газете; статья эта была написана не слабо и врезалась мне в память; ее написала Евгения Тур. Г-жа Тур назвала в ней русских «варварами» за то, что они толкуют о Ст. Милле и Бокле, не понимая их. Незаслуженный комплимент! К несчастию, именно эти заграничные путешественники нисколько не варвары, а, вероятно, люди пошлые! Пускай бы они были варварами, но такими, какими были Суворов, Потемкин и другие «екатерининские орлы», какими суть наши крестьяне, иные герои Островского и казаки Толстого. Нация больше выигрывает от подобных варваров, чем от многих наших европеистов и писателей. Кстати, желательно было бы знать, как понимает Милля и Бокля сама авторша этой маленькой громовой выходки? Называя других варварами (не в смысле свежести, а в смысле глупости), надо было бы самой научить их, как понимать этих двух свободолюбцев – Бокля и Милля, вовсе не похожих друг на друга. Отдает ли себе ясный отчет г-жа Тур в том, что если бы человечество решилось внимать только Боклю, который так серьезен в приготовительном труде и так мелок в общем выводе, то через несколько десятилетий не стало бы ни религии, ни поэзии, ни искусства, ни славы, ни природы; а если бы человечество поняло, что есть между строками у Милля, и, главное, послушалось бы своих догадок, то оно бы вело войны, как ведет оно и теперь, но без лицемерных оговорок, не спешило бы везде вводить парламентское устройство и строго запретило бы обрабатывать все пустыни, несмотря на мирно-либеральные увещания, которыми задабривает читателей этот, хотя и стесненный духом осмотрительного века, но все-таки смелый мыслитель. Ибо, во-первых, войны развивают индивидуальность как наций, так и лиц; они прямо и косвенно подают людям повод обнаруживать творческие силы; напр<имер>, одно Ватерлоо дало множество превосходных страниц искусству, и давно ли еще напечатано было удивительное произведение Эркмана-Шатриана «Waterloo», от которого и слезы готовы литься, и волосы встают дыбом у самого закоснелого в чтении человека! Ибо, во-вторых, парламентское устройство бессильно само по себе возвысить обедневшую духовно нацию. А эпохи, полные жизни и творчества, бывали велики и без свободных учреждений: Германия Фридриха II, Марии Терезии, Гёте, Канта и Бетховена была благороднее, прекраснее нынешней Швейцарии или нынешних Соединенных Штатов, знаменитых своим самоуправлением и своим мещанством. В-третьих, ибо сам Милль говорит, что не следует человеку быть беспрестанно в обществе, что с обработкой всех пустынь, с уничтожением дремучих лесов и диких зверей пропадет всякая глубина человеческого духа (и где же говорит он это, не в книге «О свободе», но в своей «Политической экономии»!).
Чтобы доказать другим, что они пошлы, надо было самой авторше умудрить своих бедных соотичей. Что же касается до названия «варвары», то это просто обмолвка; это название слишком лестно для людей, которые носятся по железным дорогам Европы из гостиницы в гостиницу. Вот г-н Щедрин назвал их гастро-половыми космополитами, и в награду его самого можно назвать «варвар севера надменный»! Русский варвар мог вдохновить Беранже, который написал «le coursier du cosaque» {9} , но кого вдохновят (не отрицательно) те люди, которые оскверняют Невский своим пасквильно-европейским видом?
Отступление это не случайно. У Ап. Григорьева было именно то, что бы порадовало Милля и испугало Бокля, если бы они оба его знали; Милль увидал бы в нем индивидуальность человека и писателя, а Бокль понял бы, что для него чистый рассудок («разум» у Бокля!) вовсе не был путеводной звездой. Лично я, к несчастию, мало был знаком с Григорьевым, и биографические подробности о нем у меня почти все отрывочные.
Мне нравилась его наружность; его плотность; его добрые глаза, его красивый, горбатый нос; покойные, тяжелые движения, под которыми крылась страстность. Когда он шел по Невскому в фуражке, в длинном сюртуке, толстый, медленный, с бородкой; когда он пил чай и, кивая головой, слушал, что ему говорили, он был похож на хорошего, умного купца, конечно, русского, не то чтобы на негоцианта в очках и стриженых бакенбардах!
Один из наших писателей рассказывал мне о своей первой встрече с Ап. Григорьевым; эта встреча, кажется, произошла уже давно. Писатель этот сидел в одном доме, как вдруг входит видный мужчина, остриженный в кружок, в русской одежде, с балалайкой или гитарой в руках; не говоря ни слова, садится и начинает играть и, если не ошибаюсь, и петь. Потом уже хозяин дома представил их друг другу.
Когда я хочу знать биографию лица, мне недостаточно отчета о его общественной деятельности, я хочу знать все его слабости, все пороки, все домашние дела, все его привычки; всю анекдотическую часть его жизни. Представляя себе Наполеона I, я думаю не только о Маренго, Аустерлице, Бородине и Пирамидах, об административной энергии его, об его законодательстве и т. п. вещах – нет, я интересуюсь тем, что он нюхал табак, что он носил серый сюртук, что ему нравилась одно время г-жа Рекамье, что в Москве он страдал геморроем мочевого пузыря, что в молодости он был хуже собой, чем в зрелости, и т. п.
Многие читатели прощают Руссо его колебания; любят придворное тщеславие Гёте; забавную аккуратность Канта; оргии Байрона и Шеридана; грубости Петра I. Смесь пороков и благородства, смешных привычек с поразительными силами чувств и ума сильнее действует на всех, чем безупречная плоскость. Этот вкус читателей не есть, как обыкновенно думают, праздное любопытство; не праздное любопытство также и страсть многих к анекдотам про разные странности, привычки и выходки известных людей. В этих вкусах, кроме естественной и похвальной любви к увлекательному, есть как бы научное предчувствие. Когда мы описываем растение, мы не говорим только о прикладной его части, об аптечных, фабричных и кухонных свойствах его; подробное описание этих свойств предоставляется особым отраслям науки; для описательной же ботаники интересны, напр<имер> в шафране, не одни только лекарственные красные тычинки его, но и корень, и листья, и микрография клеточек, и красота лепестков; ботаник обязан не пропускать даже таких мелких органов, или придатков, которых польза для самого растения до сих пор непостижима.
К несчастью, повторяю, я знал Григорьева очень мало; знал, напр<мер>, что он жил бедно и, кажется, очень беспорядочно; знал о некоторых пороках и слабостях его, слышал, как его иные звали литературным Любимом Торцовым. Но всего этого недостаточно. Я бы желал, чтобы друзья Ап. Григорьева, которые знали его хорошо, не стесняясь никакими обыкновенными приличиями, составили бы биографию, достойную этой страстной и мыслящей натуры [1] .
Бояться обнаруживать ошибки и темные проступки любимого человека – значит мало надеяться на его достоинства и привлекательность. Наконец и то сказать, половина читателей в самой жизни предпочитают таких беспутных людей, каков был, напр<имер>, А. де Мюссе, – людям обстоятельным, вроде Канта. А в чтении и спора нет, что биография последних настолько же бледнее и скучнее, насколько трактат о красильных веществах скучнее и ниже книги Шлейдена «Растение и его жизнь»!
Нельзя не настаивать, чтобы у нас писались хорошие, подробные и откровенные биографии. У нас до сих пор нет ни одной ясной художественной биографии таких лиц, как императрица Екатерина II, Потемкин, Кутузов, Лермонтов, Хомяков и т. д. Все сведения отрывочны. Из существующих биографий – одни казенны, другие кратки и поверхностны. Свое прошедшее мы знаем мало, а нам знать свои, хотя бы и поблекшие, начала нужнее, чем кому-нибудь, ввиду гражданских реформ, в соседстве подавляющей культуры Запада и той внутренней работы душ, которая недоступна политическому миру, но зато глубоко изменяет на наших глазах семейную и общественную жизнь нашу. Свое ближайшее прошедшее мы знаем мало; молодым людям, вырастающим теперь, не только XVIII век, но и вся первая половина XIX <века>, будут скоро казаться смутной картиной без живых лиц и теплоты, из глубины которой будут до них долетать только стоны рабов, шепот взяточников и команда генералов. Да возгордятся они своей прогрессивной и бестолковой беспорочностью!