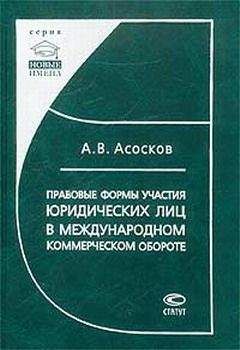Но утром восемнадцатого августа — мы с Дэвидом вернулись с прогулки и сидели на террасе с видом на озеро, а Сабрина принимала ванну — из Москвы позвонил Вадим в состоянии, близком к панике.
— Билл, похоже, это действительно происходит.
— Что именно?
— Рубль в свободном падении. Правительство больше не поддерживает рубль. Аналитики говорят, что падение остановится только после семидесятипятипроцентного обвала.
— Ох, ничего себе… — Я поставил стакан с водой на кованый столик. Я был потрясен. Из кустов выпорхнула черная птица и полетела к озеру. Дэвид что-то радостно пролепетал ей вдогонку.
— Это еще не все, Билл. Российское правительство объявило, что отказывается от обязательств по внутреннему долгу.
— Как? Зачем отказываться от обязательств, когда они могут напечатать денег, чтобы по ним расплатиться? Не вижу логики.
— В их действиях нет логики, — устало произнес Вадим.
— Как на это реагируют рынки? — спросил я, готовясь к худшему.
— Тут полный обвал. Заявки на покупку сошли на нет. Изредка проходят единичные сделки по цене ниже на восемьдесят — девяносто пять процентов.
Я не стал ничего больше говорить, взял Дэвида на руки и вошел в номер. Я не мог представить себе такого в самых кошмарных снах. До разговора с Вадимом я полагал, что рынок уже достиг дна.
В ту же секунду мне стало ясно: надо срочно возвращаться в Москву.
Когда я сообщил новость Сабрине, она спросила, почему я не могу разобраться с этим отсюда, из отеля. Я попытался объяснить всю серьезность ситуации, но она отказывалась понимать. Я в спешке собрал вещи и на прощанье попытался обнять Сабрину, но она отстранилась. Я взял на руки Дэвида и крепко обнял малыша.
Вечером я уже был в Москве. Когда стихла волна паники, стал ясен ущерб: фонд потерял девятьсот миллионов долларов, или девяносто процентов стоимости. Вот это было настоящее дно!
Невозможно описать словами, каково это — лишиться девятисот миллионов долларов. Меня будто самого выпотрошили. Несколько недель я чувствовал ломку во всем теле, словно его придавило тяжелым грузом. Ущерб был не только материальным: два года я расхваливал перспективы инвестиций в российскую экономику — и вот так грандиозно подвел своих инвесторов.
А затем еще публичное унижение. Журналисты, которые прежде возносили меня на пьедестал, с таким же энтузиазмом принялись чихвостить за провал. Казалось, что я жертва страшной автомобильной катастрофы, и водители притормаживают рассмотреть изуродованное тело и искореженные металлические обломки.
Тем не менее, в голове крутился только один вариант: оставаться. Я должен вернуть деньги, потерянные из-за меня клиентами. Я не собирался убегать из России с поджатым хвостом и не мог допустить, чтобы меня запомнили таким.
Я корил себя за все произошедшее. Но с удивлением обнаружил, что многие инвесторы не думают об этом. Их занимали проблемы куда серьезнее. До начала кризиса российские государственные облигации приносили свыше тридцати процентов прибыли, и большинство людей считали их более надежными вложениями, чем акции. Многие даже брали кредиты, чтобы купить побольше облигаций. Поэтому наш средний инвестор вложил в облигации в пять раз больше средств, чем в фонд Hermitage.
Мои инвесторы знали, что в худшем случае могут потерять вложенные средства, но никто даже представить не мог, что это произойдет с облигациями.
Бени Штайнмец, израильский алмазный магнат, который свел меня с Эдмондом, понес очень крупные потери, из-за этого ему пришлось продать свою долю в фонде Hermitage. Было жаль потерять такого партнера, но, к счастью, оставался Эдмонд. По крайней мере, я так думал.
В мае 1999 года, отправившись на выходные в Лондон, я прочел в «Файнэншл Таймс», что Эдмонд Сафра продал свой «Республиканский национальный банк» крупному британскому банку «Эйч-эс-би-си». Он, как и Бени, сделал большую ставку на рынок российских облигаций и проиграл. На его век пришлось больше рыночных взлетов и падений, чем я мог сосчитать. Эдмонд пережил бы финансовый кризис и двигался дальше, но незадолго до всех этих событий у него развилась болезнь Паркинсона, и я сам замечал, как за время нашего партнерства его состояние постепенно ухудшается. Иногда его было тяжело понимать в разговоре. По какой-то причине он не готовил себе смену, поэтому, случись что, заменить Сафру было попросту некому. Все это вынудило Эдмонда как можно скорее продать банк, и предложение от «Эйч-эс-би-си» пришлось как нельзя кстати.
Уход Эдмонда стал для меня тяжелым ударом: один из самых блистательных финансистов мира больше не был моим партнером.
Семейная жизнь тоже летела под откос. После моего поспешного отъезда, которым завершились наши итальянские каникулы, отношения с Сабриной испортились хуже некуда. Разлука, стресс и разделявшее нас расстояние давили своей тяжестью. Каждый раз, когда я прилетал в Лондон, мы ссорились. Похоже, дело шло к разводу, но я всеми силами пытался этого избежать. Для начала предложил обратиться к семейному консультанту. Мы сменили трех специалистов, но это не помогло. Я пробовал прилетать сразу на три-четыре дня, но казалось, что мое присутствие больше раздражает Сабрину, чем радует.
Все же Сабрина организовала для нас очередной семейный отдых. Она выбрала гостиницу «Элунда Бич» на берегу моря в Греции. Мы отправились туда в августе 1999 года. С момента прибытия она влюбилась в это место и была на удивление мила и приветлива, даже нежна со мной: ни тебе холодных взглядов, ни споров о моей работе и инвесторах. Это удивило меня. На второй вечер мы даже оставили Дэвида с приглашенной на вечер няней и отправились вдвоем в местную таверну. За ужином я рассказывал жене о России, а она непрестанно расхваливала успехи Дэвида. На несколько часов я поверил, что все не так уж плохо, и наши отношения налаживаются, словно по волшебству. Я чуть было не спросил, что же вызвало такую чудесную перемену в ее настроении, но решил не испытывать судьбу. Помню даже, как за десертом она рассмеялась в ответ на какую-то глупую шутку.
Следующий день тоже прошел великолепно. Мы провели весь день на пляже. Дэвид так славно играл в песке, что мы попросили принести обед под тент. На закате мы вернулись в номер уложить Дэвида. Я подумал, что, может, Сабрина по какой-то неведомой причине решила оставить былые разногласия, и теперь все будет хорошо.
Когда Дэвид уснул, я пошел в душ смыть с себя налет соли и крема от загара. Пока я убаюкивал сына вечерней сказкой, Сабрина уже успела освежиться и читала журнал в спальне. После душа я наполнил умывальник горячей водой и начал бриться. Все выглядело как иллюстрация идеального семейного отдыха.
Я уже заканчивал, делая последнее движение бритвой, когда на пороге ванной появилась Сабрина.
— Билл, нам надо поговорить.
Я опустил бритву и посмотрел на отражение Сабрины в зеркале.
— Конечно. Я слушаю.
— Я больше не хочу быть твоей женой, — ровным голосом произнесла она.
Бритва выпала у меня из рук, и я стал шарить в пене, чтобы выловить ее. Я выключил воду, схватил полотенце и повернулся к Сабрине.
— Что?
— Я больше не хочу быть твоей женой. Я больше так не могу.
— Но мы ведь так замечательно проводим время… — слабо возразил я.
— Конечно. Я была приветливой, потому что приняла решение. Теперь у меня нет причин злиться. — Она мягко улыбнулась и вернулась в спальню, оставив меня наедине с собственными мыслями.
Я был раздавлен новостью, но, что странно, вместе с тем почувствовал облегчение. Мы оказались в безвыходном положении: я не хотел жить «нормальной жизнью» и ходить на «нормальную работу» в Лондоне, как настаивала Сабрина, а она не хотела иметь ничего общего с моей сумасшедшей жизнью в Москве. Нас с трудом можно было назвать семьей. Продолжать отношения только ради сохранения брака, даже если я не хочу его рушить, было неверно. Я в некотором смысле был благодарен Сабрине за то, что у нее, в отличие от меня, хватило решимости поставить точку.
Остаток отдыха прошел спокойно. Несмотря на распадающийся союз, нам было хорошо вместе, рядом был наш малыш. Мы вдруг превратились в друзей, а не разлученных супругов, которые не выносят друг друга. Когда отпуск подошел к концу, мы поехали в аэропорт. Прежде чем повернуть к выходу на свой рейс, Сабрина сказала:
— Билл, мне правда очень жаль. Я знаю, что виновата.
— Ничего, — ответил я. Очень мило с ее стороны, но я-то знал, что моей вины во всем этом не меньше.
— Мы хорошие люди, Билл. Ты хороший отец, надеюсь, что и я хорошая мать. Просто, видно, не суждено.
— Понимаю.
Она поцеловала меня в щеку, попрощалась и ушла, увозя Дэвида в коляске. Я смотрел им вслед, меня переполняло знакомое чувство потери. Я всем нутром ощутил жуткую пустоту. Терять любовь оказалось намного тяжелее, чем деньги.