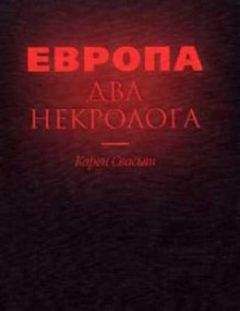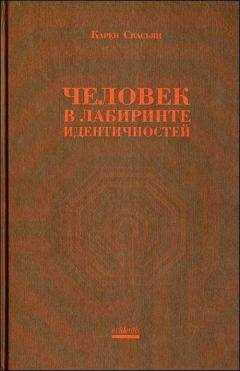Предсмертная воля Гитлера отождествить свою личную судьбу с судьбой немецкого народа и не оставить последнему иного выхода, как последовать за своим сломленным фюрером в ничто, исполнилась на немецких философах. Пока зачинщики последнего немецкого двенадцатилетия, юридически принужденные представлять немецкое как таковое, стояли перед трибуналом, навлекая на себя ненависть всего мира, отцы–философы страны мыслителей приноравливались к политической трагике дня, рассчитывая с минимальными потерями отделаться от «истории», в которую они влипли. Но то, что теряет философ, подбирает журналист; с 1945 года тон — в делах как трансцендентальной, так и эмпирической значимости, — задают преимущественно люди прессы. Что в рубленых, черно–белых, рассчитанных на блиц–прочтение в пивных и синхронное (с пивом) заглатывание фразах заготавливалось бойкими репортерами, переводилось затем на «более философский» язык и толковалось (официальный толкователь — доктор медицины, ординарный профессор философии Карл Ясперс) как — «вопрос вины». Нет сомнения в том, что газетная братия догадывалась, «где зарыта собака»; в конце концов именно от немецких журналистов исходила инициатива посадить на скамью подсудимых в Нюрнберге певца Заратустры философа Ницше.
Смутное, но навязчивое чувство витало в воздухе: привлечь к ответственности за случившееся не только злых политиков, но и фо- бофобических философов. Ничего удивительного, что с отмеченного момента к эксклюзивной компетенции людей прессы относятся не только подсмотренные в замочную скважину шалости всякого рода «знаковых», как они выражаются, шалопаев, но и философские проблемы. Трудно сказать, впрочем, кто в скандале вокруг Ницше выказал большую тупость и безвкусицу: философы или — газетчики. Несомненно одно: «вопрос вины», частным случаем которого оказывается карикатура «Ницше в Нюрнберге», есть лабиринтная проблема и, как таковая, подлежит ни журналистскому, ни даже философскому, а единственно кармическому ведомству. Поставленный в свет кармы, топос Ницше на нюрнбергской скамье подсудимых демонстрирует: философски — глупость, эстетически — пошлость, клинически — слабоумие. Не ницшевское предвидение восходящего нигилизма расчищало путь мифу национал–социализма, а неспособность духовно ответственных узреть в этом видении нечто большее, чем черепные данные какой–то светловолосой бестии. Не будь мировая необходимость нигилизма у соотечественников Ницше сведена, с одной стороны, к академически дурному тону, с другой стороны, к декадентским обезьянничаньям, едва ли и возник бы тот немецкий вакуум, который — после Версальского мира и реванша la grande nation — всосал в себя национал–социалистическую революцию нигилизма. Со времен Бисмарка философская карма Германии (исключительным последствием которой и стала политическая карма Германии) называется: кантианство. Что есть кантианство? Английская идея (Pax Britannica), одержавшая политически верх над Европой через Наполеона, победила Европу духовно через Канта. В Канте лютеровская вера, проветренная от смачно–лютеровских припахов и «неприличностей» и сублимированная до пуритански–твердолобого ригоризма, прокрадывается в философию — с расчетом и здесь сдвигать горы. Когда одно немецкое мышление осознало себя как высшее звено в эволюционном ряде образующих природу процессов, оно возвестило свое начало в следующем диагнозе: «Современная философия страдает нездоровой верой в Канта» (Рудольф Штейнер). Не будем забывать: приближающийся к своему Et incarnatus est Ариман создает себе форум и паблисити в первую очередь как раз среди философов. После отто–либмановского отступления к Канту, каждая свободная от Канта, не окантованная мысль подвергается обструкции и отлучению от философской церкви. Но одно дело, нездоровая вера в Канта в условиях томительного fin de siecle, другое — она же на фоне лозунга: «Убей немца!» Как выглядел бы немецкий бланкомир 1945 года в оптике кантианца? Сомнений нет: просто неким миром в себе и для себя. Хотя надо мной нет уже никакого звездного неба, а есть лишь «летающие крепости», зато никому не дано вырвать «моральный закон» из моей груди. Стертому в порошок, в ничто, в локковскую tabula rasa миру кантианец противопоставляет вечные априори матери–философии. Философам не пристало расточать свои драгоценные силы на агностику злобы дня. Доцент философии Мензе, Боннский университет, внушает своим находящимся под шоком соотечественникам в 1946 году, что «каждая произрастающая на почве духа времени философия теряет почву философии и становится беспочвенной»[81]. Эта фраза лишний раз убеждает в том, что ни на какой другой почве цветы зла не способны произрастать столь буйно и пышно, как на немецкой почве, и что видеть их только в политиках, а не — прежде всего
— в философах, значит лишь засвидетельствовать незрелость ума и инертность воли.
В свете сказанного представляется возможным философски прояснить понятие карма. Карма в ХХ веке — это отнюдь не санскрит и не «пещеры и дебри Индостана», а оптика истории, если история хочет быть не fable convenue, а Gesta Dei per hominem. Кармой называется и кармой является, когда некий немецкий философ в головокружительности ускользающей из–под ног немецкой почвы ищет опору на почве philosophia perennis. Страна поэтов и мыслителей anno Domini 1945 есть некий прискорбный дубль Книги Бытия. Строка: земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, гласит дальше на фоне немецкого жизненного пространства 1945 года: и недух философов носился над водою. — Когда–нибудь, в каком–нибудь более удачно сделанном будущем, обнаружат достаточно зоркости, мужества или, если угодно, вкуса, чтобы признать в послевоенных философах Германии пионеров западной наркомании. Там, где настоящее выбивало у целого народа почву из–под ног, философы, вроде Ясперса, отыскивали себе новых гарантов идентичности в корнях прошлого. Ясперс: «Для нас ни в коем случае еще не потеряно всё, если только в отчаянии мы не пустим по ветру и то, что неотъемлемо от нас: основу истории, данную нам сперва в тысячелетии немецкой истории, затем западной истории и, наконец, истории человечества в целом. В нашей открытости человеку мы должны углубиться в эту основу, в самые близкие и самые отдаленные для нас воспоминания. Повсюду нам будет попадаться не только жутко безысходное, но и то, что придает нам бодрость. Мы приобретем внутреннюю связь с тем, что людям во всем мире пришлось испытать в крайних обстоятельствах. В просторе этой человечности иной немец находил себе опору, когда он был отвержен отечеством»[82]. «Мы» скажем на это: до чего же пусто, плоско и банально — фиксировать источники немецкого перевоспитания где–то в политических кругах Лондона и Вашингтона и не замечать стараний местных коллаборационистов! (В ясперсовском «просторе человечности», конечно же, не нашлось места 35 летнему писателю Роберу Бразийаку, расстрелянному в Париже 6 февраля 1945 года за коллаборационизм[83].) Немецкое reeducation носит марку: Made in Germany. — Поскольку (после известных событий) немцу, как немцу, нечего было рассчитывать на иную участь, кроме отверженности, ему оставалось лишь последовать совету реномированного профессора философии и выставить себя перед миром уже не как просто немца, а как — человека. Как человек (см. выше ссылку на вадемекум Аримана), он имел бы несколько большие шансы занять место за столом, нежели будучи просто немцем; в последнем случае ему не оставалось иной участи, кроме ненависти и презрения. — Может, эта тупая интеллигентская патетика и способна тронуть некую «знаковую» публику, как аперитив перед буфетом; к действительной проблеме она не имеет никакого отношения.
Если до 1945 года логически–юридическое чучело, называемое человек, никак не тревожило еще университетскую философию (вследствие её полнейшей невосприимчивости к апокалиптику Штирнеру и теософии гётеанизма), то с этого года некто «человек» становится преследующим её наваждением. Парализованные бомбовыми коврами, устлавшими их милое отечество, немецкие философы, как и немецкие обыватели, меньше всего готовы были осмыслить действительную подоплеку случившегося. Старый испытанный шаблон дуализма: добрый Бог против злого дьявола, брал и на сей раз верх над серьезностью случая, хотя на роль мирового Бога против среднеевропейского дьявола претендовали уже оба — как западный, так и восточный — дьявола. Соотечественникам Гегеля следовало бы проявить некоторую осторожность в обращении с таким понятием как коллективная вина.