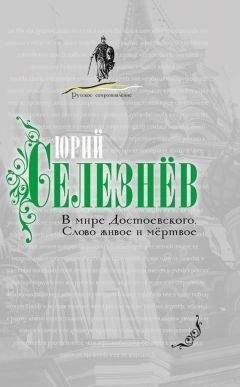Но это, скажете, портрет критика в идеале. Что ж, может быть, и так. Напоминает же наша критика писателям об истинных идеалах художника, почему бы ей и самой не вспомнить об идеалах собственно критических?
Да это уж – возразят – и не портрет критика, пусть и в идеале, а скорее, образ мыслителя, идеолога, философа, освещающего пути развития той области духовной жизнедеятельности общества, человечества, которую мы называем литературой.
А кто сказал, что задачи истинной критики иные?
Подлинное назначение критики – быть политикой, идеологией, философией посредством самой литературы, которая и есть для критика воплощенные в художественном образе национальные, государственные, общемировые, духовные, нравственные, общественные, идеологические процессы, конфликты, проблемы эпохи.
Но были и иные взгляды на критику. Нет, не скептические, не отрицающие ее, но указующие на ее место. Вот что утверждал, к примеру, такой достаточно серьезный писатель, как Томас Стернз Элиот:
«Говоряокритике, я… имеюввиду… комментирование и объяснение художественных произведений посредством печати…
Критика… должна всегда служить определенной цели, которой, грубо говоря, является толкование произведений искусства и воспитание вкуса».
Конечно, и толкование художественного произведения, и воспитание вкуса – задачи немаловажные. И действительно, многие комментаторы художественных произведений полагают, что они-то и исполняют истинное предназначение критики. Однако в таком понимании не более истины, нежели в представлении о том, что, скажем, целью поэзии является, «грубо говоря», писать в рифму…
Взгляд на критику (а не на отдельных ее представителей) как на нечто второсортное, находящееся не в едином литературном процессе, а как бы вне его, при литературе, обслуживающее ее, всегда был чужд и неприемлем для русского писателя, прямо заявившего об этом еще устами Гоголя: «…критика, основанная на глубоком вкусе и уме, критика высокого таланта имеет равное достоинство со всяким оригинальным творением… Для истории литературы она неоценима». «Критика так же естественна и такую же имеет законную роль в деле развития человеческого, как и искусство», – подтверждал Достоевский.
Понятие о критике как о своего рода служанке литературы – вредно и обоюдоопасно: высокомерно-пренебрежительное отношение к критике как к чему-то «принципиально ущербному, завершающему себя с помощью чужого творчества» (заявление Марселя Пруста) привело, как известно, на Западе к резко противоположному и столь же противоестественному соотношению ценностей. Как писал М. Эпштейн в статье «Критика в конфликте с творчеством» (Вопросы литературы, 1975, № 2), на Западе ныне с тревогой анализируют «усиливающуюся в критике тенденцию к автономии, к цеховой замкнутости, к освобождению от обязательств перед литературой и читателями. Как указывал… английский критик Д жордж Стейнер, «если вообще критик является слугой поэта, то сегодня он ведет себя как господин».
Такое превосходительное отношение критики к литературе, отношение господина к подчиненному, в свою очередь «вызывает девальвацию тех художественных ценностей, которые критика по своей природе призвана оберегать».
Да, понимание целей и задач критики во многом определяется пониманием того, что же такое литература в целом. Если литература это только особый способ личного самоутверждения или самовыражения с помощью определенной системы знаков (о чем в конечном счете твердят теоретики и практики различных школ формализма, модернизма, авангардизма) или если, как писал в свое время Гончаров, разуметь «под словом «литература» повести, романы, стихи – словом, беллетристику», то есть только определенный род профессиональной деятельности, – то это одно дело. Тогда и задачи литературной критики действительно чисто профессиональные: толковать, комментировать. Что в одной ситуации и осознается как прислужничество, а в другой – как господство. Если же литература, – продолжает Гончаров, – это «письменное или печатное выражение духа, ума, фантазии, знаний целой страны», тут уж, как мы понимаем, дело совсем иное.
А именно так высоко и ответственно и понимали русские писатели свое особое, я бы даже сказал – исключительное, предназначение. Литература – выражение «национального духа и национальной жизни» – так ставил вопрос Белинский; «литература – выражение всей жизни», – убеждал Достоевский; «литература – национальное дело первостепенной важности», потому-то, – подводил итоги М. Горький, – «наша литература – наша гордость, лучшее, что создано нами как нацией. В ней – вся наша философия, в ней запечатлены великие порывы духа…».
Но в таком случае иные и цели и задачи критики, имеющей дело не просто с повестью такого-то прозаика или стихами такого-то поэта, но с «великими порывами духа» целой нации, народа, запечатленными в художественном слове. Тут уж не до господства и не до прислуживания. Тут вступают в силу совершенно иные категории. Тут нужен не комментатор, но действительно – мыслитель, философ, идеолог, обладающий, кроме того, высокоразвитым художественным вкусом, чувством прекрасного.
Откройте историю русской философии – и вы убедитесь, что более половины ее представителей составляют имена, законно вошедшие и в историю русской критики: Белинский, В. Майков, Погодин, И. Киреевский, Хомяков, К. Аксаков, Чернышевский, Добролюбов, Писарев, Григорьев, Н. Страхов, В. Розанов, Михайловский, Плеханов… А подавляющее большинство оставшихся мест заполняют имена писателей, критическое наследие которых является не просто дополнением к их художественному творчеству, но имеет выдающееся самостоятельное значение собственно теоретической, идеологической мысли: Веневитинов, Вл. Одоевский, Пушкин, Герцен, Достоевский, Л. Толстой, М. Горький… Даже наследие таких представителей философской мысли, как Чаадаев, Бакунин, К. Леонтьев, Вл. Соловьев, во многом основано на осмыслении опыта русской литературы; к тому же, как мы знаем, К. Леонтьев и сам писал романы, ревниво сравнивая себя как романиста с Достоевским, а имя философа Вл. Соловьева на равных основаниях вошло и в историю русской поэзии.
Да, названные имена принадлежали разным общественно-историческим и идейно-теоретическим направлениям, но факт остается фактом: история русской литературы вместе с тем всегда была и историей русской мысли.
Истинная критика не в расстановке школьных оценок писателям, ее призвание – «обобщать явления и разъяснять их историческую связь» (Лесков), потому-то в критике и «выражается, по убеждению Достоевского – вся сила, весь сок общественных выводов и убеждений».
Помните чеховское – «это не критика, не мировоззрение…»? Критика – это и есть прежде всего сила, обобщающая, связующая общественные выводы и убеждения нашей литературы с точки зрения всенародных потребностей, как существующих, так и только вызревающих. Огромная ответственность. Потому Белинский, скажем, и стал для русской литературы образом и даже символом критика; по определению Тургенева, он был «центральной натурой, он всем существом своим стоял близко к сердцевине своего народа, воплощал его вполне».
Мы знаем, с какой остротой не однажды вставал вопрос о партийности литературы. Русская критика по природе своей, по своему общественному назначению никогда не была и – главное – не могла быть внепартийной. Позиция так называемой теории чистого искусства, мы знаем, не что иное, как та же своеобразная позиция литературной партии, пытавшейся в лице влиятельных в свое время критиков – Дружинина, Боткина, Анненкова, Дудышкина – отвлечь лучшие силы русской литературы от общественно-исторических, общенародных, национальных проблем и задач эпохи. Передовая русская критика всегда выдвигала на первый план задачу народности литературы, выработки среди многочисленных литературных групп «партии народа» (Добролюбов). И в этом смысле в традициях русской критики не только ставить эти задачи, но и прежде всего самой на деле соответствовать им. Иной – хочу еще раз повторить – критика не может быть по самой своей природе, иначе она – «не критика, не мировоззрение».
При всем особом интересе современной науки о литературе именно к этой, идеологической, стороне русской критики она-то как раз, мне представляется, и не нашла до сих пор необходимого понимания. Извлечь опыт прошлого – значит многое понять и в настоящем, и в осознании путей дальнейшего движения, критической мысли. А между тем мы до сих пор не имеем обобщающего труда не то что по теории, методологии, но даже и просто учебника по истории русской критики, роль которого вынуждено выполнять едва ли не единственное учебное пособие – «История русской критики» В. И. Кулешова (М., Просвещение, 1972), ныне подготавливаемое к переизданию. Оттого-то, думается, и есть прямой смысл поговорить об этой книге.