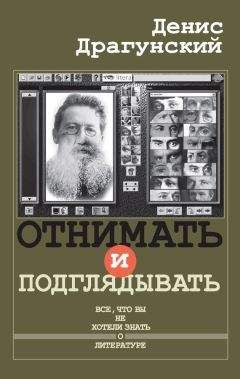С экзистенциальной ответственностью на первый взгляд сложнее. Это уже что-то мистическое (в хорошем смысле слова), это внутреннее, личное, интимное переживание важности и истинности момента. Если сакральность – чисто социальная, «учрежденная» штука, то экзистенциальная ответственность – нечто скорее эмоциональное. Но тут запятая: мое переживание важности и истинности не может быть только моим. Если я хочу, чтобы его признали истинным и важным, оно должно быть подтверждено кем-то другим. Экспертами, критиками, просвещенными читателями. Потому что субъективно любой графоман, особенно наивный графоман, наполнен экзистенциальной ответственностью просто-таки до ушей. Его распирает. Его взрывает изнутри. Он пишет кровью сердца, лимфой, спинномозговой жидкостью. Порою даже спермой, как говорил Василий Розанов о собственных писаниях. Но нам не нравится. Мы не сопереживаем, нас не со-распирает и не со-взрывает с ним вместе. Нам смешно или жалко. Очевидно, нужно вхождение в некий контекст. Экзистенциальная ответственность нуждается в учреждении не менее (а может, в силу своей неухватности и более), чем сакральность.
Вернулись к институтам.
В литературе и особенно в понимании литературного процесса мы еще не выбрались из институционального наследия советской власти. Оно, это наследие, эта path dependency (зависимость от наезженной колеи) проявляется порой неожиданно.
Я писал, что графомания как образ жизни была учреждена советской системой литературных консультаций. Каковая система, в свою очередь, базировалась не только на административных регламентах (ответы на письма трудящихся), но и на идее «призвать ударников в литературу», создать из передовых пролетариев мощную когорту правильных писателей. Это для нас особенно важно. Советская литература – это был общий проект типа плана ГОЭЛРО. Отдельные писатели – не все, но самые замечательные – были конкретными проектами типа отдельных электростанций.
Сама возможность создать «большого писателя» почти из ничего, из одной посредственной повести (проект «Фадеев») или вообще неизвестно из чего (проект «Шолохов»), или ну совсем не из того (проект «Алексей Толстой») – эта возможность оказалась величайшим соблазном для издателей и пиарщиков грядущих поколений. Хотя они, наверное, сами не знают, по чьему следу идут. Однако нет никакой существенной разницы между раскруткой современного детективщика и возгонкой классика соцреализма. Если такая разница и есть, то она только моральная. И она в пользу ЭКСМО или АСТ. Нынешних королей спроса читают всё же добровольно, а Фадеева (и многих-многих других) читали вынужденно, из-под учительской палки и в условиях ужасающего малокнижья. Но в сухом остатке – возможность раскрутить кого угодно.
«Пьер Менар, автор Дон Кихота» – борхесовский парадокс.
Автором «Тихого Дона» мог стать любой Петр Минаев (имя-фамилия условные).
История русской советской литературы – точнее, история разгрома, а также сдачи и гибели уцелевших остатков русской литературы – еще не написана. Еще не составлен мартиролог людей и идей, человеческих судеб и моральных норм. Не знаю, что делалось в литературах бывших «союзных республик»; им теперь разбираться самим. Нам же для начала надо понять, что это был именно разгром, сдача и гибель. И стыдно называть литературой рыдания и попискивания, которые слышались в ходе этой катастрофы. При всем сочувствии к ее жертвам. Но давать совпису оценочную фору за то, что он жил при Советах так же глупо, как давать фору графоману за то, что он пишет после тяжелого трудового дня.
Отдельные особо радикальные литературоведы считают, что мир и относительное благополучие вредят культуре. Дескать, мы в России уже несколько десятилетий живем вегетарианской жизнью. Без массовых расстрелов, войн и эпидемий. И от этого литература, и особенно поэзия, становится вся такая безвкусная. Вегетативная. «Овощная».
Ну и хрен бы с ней, а? Если так ставится вопрос.
Владимир Максимов однажды сказал, что ему надоели крики «а зато у нас был Достоевский». За что за то? За тяготы и горести простого человека, который и Достоевского-то не читал? Максимов сказал, что, будь его воля, он бы с радостью сменял Достоевского на Швейцарию. Пусть у нас в России будет безбурная благополучная удобная жизнь, а у них, у швейцарцев то есть – пусть у них «зато» – за все их беды и неустройства, за вековое рабство, за нищету и несправедливость – пусть у них будет Достоевский. А мы его переведем со швейцарского на русский.
Это совершенно правильно по моральному существу, но не совсем верно исторически.
Потому что вопрос ставится совсем иначе.
Никакого «зато» в истории нет и не было никогда.
Напротив, всегда известно было – когда говорят пушки, музы молчат. Гитлер был еще хуже Сталина. Поэтому гитлеровские писатели еще хуже, чем сталинские.
Откуда же взялась странная мысль о том, что чем круче репрессии, войны и эпидемии, тем лучше литература? Эта людоедская мысль – вернее сказать, эта мазохистская глупость – пришла к нам из советских времен. Вот как это получилось.
Русской литературе в СССР было плохо – это мало сказать. Ей стало вовсе никак. Русский роман, честь и слава нашей культуры, исчез по понятным соображениям – какое там срывание масок и сострадание униженным и оскорбленным. Сталинизм не дал приличной прозы. Поэзия? Но Ахматова, Мандельштам, Пастернак, Цветаева, а также Маяковский сложились до совка, и до совка и вне совка написали своё самое лучшее. При совке они в хорошем случае повторялись. В плохом – писали холуйские стихи.
Но советская власть, на словах поклоняясь великой русской литературе, одновременно твердила о проклятом прошлом, о страшных годах царизма. И советские люди – писатели в том числе – поверили в это. Вот и щелкнуло в их голове: самая лучшая на свете литература была в самое мрачное время, при самой жестокой власти. В эпоху шпицрутенов и крепостного права. А значит, и мы, совписы трудных дней, тоже чего-то стоим.
Шпицрутены и крепостное право, конечно, были. Было много народных тягот, правдиво описанных русскими писателями XIX века. Но невдомек было совписам, что писатель XIX века жил в преблагополучной, по сравнению с веком ХХ, обстановке. Поэтому русский писатель мог спокойно и честно осмыслять ужасы своей эпохи.
Но эти ужасы не шли ни в какое сравнение с ужасами совка, но вот об этом-то советский писатель молчал. Или врал.
Кстати, русско-советский литературоцентризм – это тоже совписовское самооправдание, самолюбование тоже. Советский миф о том, что в России литература была единственным способом самовыражения нации – возник как компенсация советского запрета на русскую философию, русское богословие, русское правоведение, русскую социологию, политическую публицистику – да на всю русскую мысль XIX и особенно начала XX века, которая не умещалась в «три этапа революционного движения». И уж конечно, сталинская Россия не была литературоцентричной. Литература была инструментом, «частью общепролетарского дела». И эту роль совписы приняли. Одни – совершенно добровольно и сознательно. Другие – сначала по принуждению, а потом привыкли.
Интим с властью – вот что опошлило советскую литературу до полного бесстыдства. Ни у какого русского и, пожалуй, европейского писателя нет ничего похожего на тот пусть даже амбивалентный, но вездесущий, масштабный, обожаемый образ власти, который создала советская литература. Не найдете ни булгаковского Воланда, ни слов Юрия Олеши о «власти гения, которая есть прекрасная власть» («Строгий юноша»), ни бесчисленных Лениных и Сталиных, а также секретарей обкомов, райкомов и заводских парткомов. Представьте себе тему дипломного сочинения санкт-петербургского студента «Образ Александра II в русской прозе 1860–70-х гг.». Даже смешно. А то же самое про совписов – да милое дело!
Совпис целиком захвачен советской властью, пронизан ее проблемами – конкретными, текущими, даже сиюминутными; он воспринимает их, как свои собственные, задушевные. Повести Юрия Трифонова осуждались подслеповатыми критиками за приземленность и бытовизм. Напрасно! Весь цикл его «московских повестей» – это сведение счетов между «ленинской гвардией» и «сталинцами» причем Трифонов открыто стоит на стороне первых, то есть на стороне расстрельщиков и террористов первого призыва.
Поразителен гомоэротизм советской литературы, эта страстная, почти плотская влюбленность в вождя. Чуковский в своих дневниках договорился до того, что Сталин – женственно прекрасен. Я ни в какой мере не являюсь гомофобом. Я люблю книги таких великолепных писателей, как Жан Жене и Евгений Харитонов. Но когда писательское сообщество в своей совокупности, как целое, превращается в «приплывшего» – это отвратительно. Игорь Губерман пишет о заключенных, которых насиловали: «Они <…> приплывают, как говорят на зоне. А начав испытывать удовольствие, порой сами уже просят о нем зэков – преимущественно блатных, олицетворение мужчины, хозяев зоны» («Прогулки вокруг барака»). Да, судьба отдельного человека такого рода может вызвать сострадание. Но когда целая литература становится пассивным партнером власти – «сие есть мерзость перед Господом».