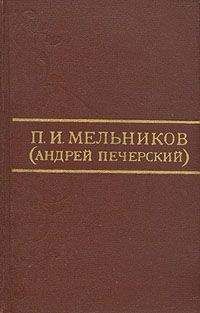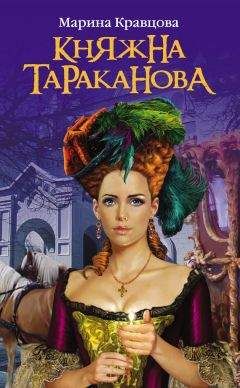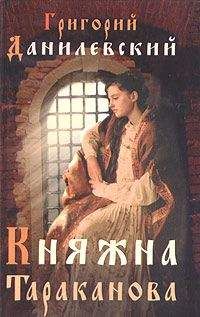При этом пленница передала князю Голицыну известное уже нам письмо к ней графа Орлова.
Фельдмаршал не удовольствовался данными пленницей ответами Он имел в виду единственно разъяснение двух вопросов: кто подал ей мысль "всклепать на себя имя" дочери императрицы Елизаветы Петровны и с кем она по сему предмету находилась в сношениях? Эти вопросы, без сомнения, поставлены были самою Екатериной. Императрица не могла удовольствоваться одним романом захваченной пленницы, ей нужно было знать имена недоброжелателей, хотевших, в лице мнимой принцессы создать одно из политических затруднений ее царствования. Кто эти недоброжелатели за границей, а особенно в самой России, — вот что желала знать Екатерина. Этого добивался от пленницы и фельдмаршал Голицын. Хотя она и сказала, что князь Радзивил говорил ей, что она, достигнув принадлежащего ей по праву русского престола, может быть полезна для Польши, но этим фельдмаршал не удовольствовался. Князя Радзивила императрица считала за пустого человека и притом, как кажется, не хотела впутывать в дело самозванки, после того как он обещался не помогать ей, примирился с королем Станиславом Августом и признал себя совершенно бессильным перед русскою императрицей. А между тем не кто другой, как "пане коханку", и стоял во главе затеянной поляками и иезуитами против Екатерины интриги, выдвинувшей на сцену мнимую дочь императрицы Елизаветы Петровны. Но по ограниченности ума он мог быть только орудием в руках искусных в интриге людей: их-то имена и хотелось узнать князю Голицыну, об них-то и желал он получить точные сведения от пленницы.
Замечательно, что хотя из бумаг, захваченных в Пизе, и видно было, что принцесса называла Пугачева своим братом, хотя об этом и писала Голицыну сама императрица, но на этот предмет ни при первом допросе, ни при последующих не было обращено никакого внимания. О Пугачеве не спросили пленницу.
Когда она кончила рассказ о своих похождениях, князь Голицын спросил ее:
— Вы должны сказать, по чьему наученью выдавали себя за дочь императрицы Елизаветы Петровны?
— Я никогда не была намерена выдавать себя за дочь императрицы, — твердо отвечала пленница.
— Но вам говорили же, что вы дочь императрицы?
— Да, мне говорил это в детстве моем князь Гали, говорили и другие, но никто не побуждал меня выдавать себя за русскую великую княжну, и я никогда, ни одного раза не утверждала, что я дочь императрицы. Правда, иногда в разговорах с князем Лимбургом, с князем Радзивилом и другими знатными особами, которым я рассказывала о странных обстоятельствах моего детства, они говорили мне, что напрасно я скрываю свое происхождение, что им наверное известно, что я рождена русскою императрицей. Но каждый раз, чтоб отделаться от подобных расспросов, я шутливо отвечала: "Да принимайте меня за кого вы хотите: пусть буду я дочь турецкого султана или персидского шаха или русской императрицы; я и сама ничего не знаю о своем рождении". Некоторые из знатных особ даже письменно спрашивали меня, действительно ли я русская великая княжна, но я отвечала им, что не знаю, кто были мои родители.
— Отчего же слухи о вашем происхождении от императрицы распространились с тех пор, как вы приехали в Венецию, и еще более усилились, когда вы поселились в Рагузе? — спросил князь Голицын.
— Не знаю, — отвечала пленница, — но в самом деле эти слухи особенно распространились с тех пор, как я приехала к князю Радзивилу в Венецию. Может быть, это произошло от того, что сопровождавший меня из владений князя Лимбурга в Венецианскую республику его гофмаршал барон Кнорр, несмотря на неоднократные мои запрещения, в разговорах со мной давал мне титул «высочества». В Рагузе молва о том, что я дочь императрицы Елизаветы Петровны, распространилась еще более. Я даже просила сенат Рагузской республики принять с своей стороны надлежащие меры против распространения такой опасной для меня молвы.
Голицын показал ей взятые у ней завещания Петра Великого, Екатерины I и Елизаветы Петровны, а также тот «манифестик», который посылала она из Рагузы к Орлову.
— Что вы скажете об этих бумагах? — спросил он.
— Это те самые документы, что были присланы ко мне при анонимном письме из Венеции, 8 июля 1774 года. Я говорила вам о них, — сказала принцесса.
— Кто писал эти документы?
— Не знаю.
— Кто прислал их к вам — как вы предполагаете, на кого имеете в этом подозрение?
— Не знаю, кто мне прислал анонимное письмо и эти бумаги. Я готова присягнуть, что почерк, которым писаны они, мне совершенно неизвестен. Больше ничего о них не знаю и сказать не могу.
— Послушайте меня, — сказал добрейший князь Голицын, — ради вашей собственной пользы, скажите мне все откровенно и чистосердечно. Это одно может спасти вас от самых плачевных последствий.
— Говорю вам чистосердечно и с полною откровенностию, господин фельдмаршал, — с живостию отвечала пленница, — и в доказательство чистосердечия признаюсь вот в чем. Получив эти бумаги в прочитав их, стала я соображать и воспоминания моего детства, и старания друзей укрыть меня вне пределов России, и слышанное мною впоследствии от князя Гали, в Париже от разных знатных особ, в Италии от французских офицеров и от князя Радзивила относительно моего происхождения от русской императрицы. Соображая все это с бумагами, присланными ко мне при анонимном письме, мне действительно приходило иногда на ум: не я ли в самом деле то лицо, в пользу которого составлено духовное завещание императрицы Елизаветы Петровны? А относительно анонимного письма приходило мне в голову, не последствие ли это каких-либо политических соображений?
— С какою же целию писали вы к графу Орлову и послали ему завещание и проект манифеста?
— Я послала к графу Орлову пакет, присланный ко мне при анонимном письме из Венеции, потому что он был адресован на его имя. Письмо к графу Орлову от имени принцессы Елизаветы писала не я, оно не моей руки и не подписано мной. Для себя я сняла со всех этих документов копии, чтобы показать их жениху своему, князю Лимбургу. А к графу Орлову послала я бумаги, с одной стороны, думая, не узнаю ли я вследствие того чего-нибудь о своих родителях, а с другой стороны, чтоб обратить внимание графа на происки, которые, как мне казалось, ведутся из России.
— Что вы сделали с пакетом, адресованным к турецкому султану?
— Я не отправила его, ожидая, не будет ли какого разъяснения со стороны графа Орлова относительно моего происхождения.
— Повторяю вам, для собственной пользы вашей скажите: кто, по вашему мнению, прислал это письмо и духовные завещания?
— Не знаю. В свое время я много о том думала; подозрения мои в составлении их падали то на Версальский кабинет, то на Диван, то на Россию, но положительного сказать ничего не могу. Эти бумаги привели меня в такое сильное волнение, что были причиной жестокой болезни, которая теперь так сильно развилась во мне.
— Но вы из Рагузы писали еще письмо к султану, в нем уже прямо называли себя "всероссийскою великою княжной Елизаветой" и просили его помощи.
— Я к султану никогда ничего не писала и всероссийскою великою княжной ни в каких письмах себя не называла.
Фельдмаршал еще раз начал было уговаривать пленницу сказать всю правду: кто научил ее выдавать себя дочерью императрицы Елизаветы Петровны, с кем по этому предмету находилась она в сношениях и в чем состояли ее замыслы?
— Я вам сказала все, что знаю, — отвечала она с решительностию. — Больше мне нечего вам отвечать. В жизни своей приходилось мне много терпеть, но никогда не имела я недостатка ни в силе духа, ни в твердом уповании на бога. Совесть не упрекает меня ни в чем преступном. Надеюсь на милость государыни; я всегда чувствовала влечение к России, всегда старалась действовать в ее пользу.
Слова пленницы секретарь Ушаков записал. Ей прочли по-французски составленное показание и дали подписать.
Она взяла перо и твердо подписала: Elisabeth.
Сряду четыре дня после этого допроса ходил князь Голицын в каземат уговаривать пленницу рассказать ему всю правду. Но, несмотря на все его убеждения, она не изменила ни слова в данном показании и постоянно твердила одно:
— Сама я никогда не распространяла слухов о моем происхождении от императрицы Елизаветы Петровны. Это другие выдумали на мое горе.
Князь Голицын показал ей допрос Доманского, где тот признался, что на его вопросы об ее происхождении она несколько раз отвечала ему, что она дочь императрицы Елизаветы.
Пленница не смутилась и твердо сказала:
— Повторяю, что сказала прежде: сама себя дочерью русской императрицы я никогда не выдавала. Это выдумка не моя, а других.
Мая 31-го фельдмаршал князь Голицын послал показание пленницы к императрице и в донесении своем упомянул, что она стоит на одном: "сама себя великою княжной не называла; это выдумки других", и сказала это очень смело, даже и в то время, когда ей указано на противоречащее тому показание Доманского. "Она очень больна, — писал фельдмаршал, — доктор находит жизнь ее в опасности, у нее часто поднимается сухой кашель, и она отхаркивает кровь". Так как "всклепавшая на себя имя", прибавил князь Голицын, "не может еще считаться совершенно изобличенною, то я не сделал никаких ограничений в пище, ею получаемой, и оставил при ней ее служанку, так как она по-русски не знает и сторожей понимать не может".