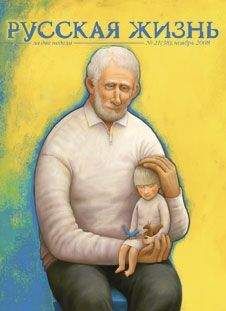Через полгода меня освободили на очень странных условиях - «по списку мертвых». Вызвали к начальнику зоны, и говорят: «Подписываешь неразглашение обстоятельств ареста и выходишь отсюда. Едешь домой и сидишь тихо. Если кому-нибудь проговоришься, получишь пять лет вдобавок к своей статье». Я говорю - а жить-то мне как без документов? Ах, тебе еще и документы? Может, ты на свободу не хочешь? В общем, выбора особенно не было. Я выходил из зоны, шагая за труповозкой, как будто я тоже мертвец, только ходячий. Открывавший ворота безоружный вохровец (в лагерях так устроено, один без табельного впускает-выпускает, другой с автоматом его прикрывает с вышки) говорит своему напарнику вертухаю: «Давай шлепнем этого щенка от греха. Он все равно окочурится где-нибудь назавтра, а проблемы у нас будут нешуточные, что мы его выпустили». Я шагал через ворота как на ватных ногах - ждал, что тот выстрелит.
До дома добрался на товарняке. Вся моя семья к тому моменту работала в колхозе за трудодни, то есть на самом деле - за краюшку хлеба. Я подождал маленько, сунулся за паспортом: мне его, что самое удивительное, выдали. А паспорта тогда были кодированные, и у меня стояло «1147», что означало «освободившийся из мест», и любой мент мог с одного взгляда определить, что со мной делать и куда меня тащить.
Больше всего тогда хотелось учиться. Я когда слышу слова «выбор профессии», мне смешно делается. После вонючей зоны, после беспросветного колхоза мне хотелось учиться хотя бы чему-нибудь. Я пошел на завод, в цех холодной обработки металла, и окончил вечернюю школу. Это советская власть мне позволила. Проблемы начались потом, когда захотелось в Иркутский авиа-техникум. Там, кроме паспорта, понадобилось свидетельство о рождении, которое осталось на зоне, - кто, мил человек, твои папа и мама? Пришлось мне идти за повторным свидетельством, а с таким документом было ясно, что человек - бывший враг народа. Посмот-рели они на мой паспорт кодированный, на мое свидетельство - и дали мне от ворот поворот. Я вернулся на завод.
В 1953 году, как известно, прошла бериевская амнистия, и работать стало некому. Как вы думаете, кого отправили на лесоповал вместо вышедших из зон? Солдат. Каких солдат? Стройбат. Из кого набирали стройбат? Из бывших зэков. В 1953 году я был вызван повесткой в военкомат и отправлен точно в ту же зону, из которой меня как мертвяка выпустили, только теперь здесь не было колючки и вышки, вместо конвойного был дневальный. Точнее, так: для начала меня отправили в бронетанковую учебку, и это хотя бы было похоже на армию. Но только выучился танк водить - отправляйся теперь на лесоповал, логика железная. А так - ну ровно все то же самое! Четыре года по воле партии и правительства я провел на лесоповале. На зоне не отработал - дашь стране древесины в армии. В Москве, значит, разоблачение культа личности, а мы, значит, лес валим. Это вам для сравнения.
Что солдат, что зэк - стране все едино: раб. Я сразу после дембеля решил поехать в Ригу, у меня там служил друг-старлей. Устроиться там не получилось, мест не было, и я пошел к вокзалу, чтобы брать обратный билет на Иркутск. Иду как положено, воротничок расстегнут. Останавливает меня патруль, ведут в комендатуру, несмот-ря на свидетельство о демобилизации. А там майор так смотрит на меня и говорит: «Сейчас придет картошки вагон, пойдешь разгружать его». Я ему - а ничего, что я дембель? Он говорит - а мне все равно, кто ты. Я говорю ему - а ты, скотина, сначала меня накорми и где поспать дай, а потом приказывай! И кулаком по столу грохнул. Расчета не было, что я дерзить буду. «Ремень сдал, звезду с пилотки снял и вон отсюда пошел! - заорал комендант. - И что бы не позорил наши ряды!» Я звезду с пилотки с мясом вырвал и ему швырнул. В ту же ночь сел на поезд и уехал.
Ряды больше не позорил. В 1960 году исполнилась моя мечта - дали мне наконец аттестат зрелости (это в двадцать девять-то лет!), можно было документы в институт подавать. Я и подал - в Иркутский сельскохозяйственный, на вечернее. Бывает, знаете, что жизнь решает за человека: ну вот я на земле работал, ну и учиться тоже пошел по этому профилю. При этом сам уже преподавал в строительном техникуме. И вагоны разгружал по ночам - учеба-учебой, а жить как-то надо было. Мне на жизнь всегда хватало - на образ жизни не хватало постоянно. Ну да нам, сибирякам, не привыкать.
Впрочем, было и кому потяжелее. Друг мой Валера, например, из-за работы не смог придти на зачет, так его стипендии лишили. А у нас в институте учились студенты-иностранцы из стран соцлагеря, в частности, из ГДР. У них была повышенная стипендия. Валера пошел к декану и сказал: «Вы фашистским сынкам стипендию, значит, платите, а мне, едва от голода в военное время не сдохшему, нет?» Сразу все образовалось. И кто, как вы думаете, его подучил так сказать? Но времена уже другие были, конечно: меня вон за неявку на работу в ГУЛАГе чуть не уморили, а тут - стипендия.
Учеба, работа, министерство. Москва
Курсе на втором у нас в Иркутске стало просто некого слушать и не у кого учиться: профессор был на весь вуз один. И я решил с этих дел перевестись в Москву. Я к тому моменту находился на хорошем счету - был профоргом всего института, учился на отлично, но мне всего было мало. Однажды к нам в Иркутсксельхоз приехал профессор Шпаер, служивший в войну стременным у Буденного. Поговорили мы с ним, и, благодаря ему, мне и моему другу Валере посчастливилось получить направление в Москву. Так я оказался на дневном отделении, но уже Ветеринарной академии. Знаете, кто в ГУЛАГе выживал? Те, кто работал с животными. Лошадь - значит, будет овес, корова - молоко. Вон лагерь у меня как глубоко засел.
После института у меня был «свободный диплом»: я мог распределяться куда хотел. Ну, молодой был и горячий, выбрал Сахалин. Шпаер мне тогда сказал довольно решительно: «Вы не Чехов в эту гниль ехать», и после ряда пертурбаций я попал в Министерство сельского хозяйства.
Со стороны может показаться, что мне свезло, - но ничего подобного, у меня даже зарплата стала меньше, чем была вместе со стипендией в институте. А я к тому моменту уже женился, надо было семью содержать. Плюс в смысле работы мне всегда было больше всех надо, и я от министерства ездил разбираться на места по всяким конфликтным поводам: кого уволили не справедливо, кому денег недодали. Должен же кто-то был всем этим заниматься. Этим кем-то в данном случае был я.
В одной из таких поездок судьба свела меня с Горбачевым. Приехал на Ставрополье разбираться в одном случае с незаконным увольнением. Председатель говорит: ну, пошли в обком, пусть нас первый секретарь рассудит. Приходим, первого нет, но нас приглашает к себе второй. Я гляжу, молодой такой, с родимым пятном. Вот, думаю, хорошо, ровесник, сейчас хоть разберемся. Садимся. Михаил Сергеевич открывает рот - и говорит ровно, по стрелке, два часа, слова не воткнешь. О Брежневе, о решениях партии и правительства, о том, как важно в этом аспекте то, это… Два часа гипноза. Сели мы к нему в 12, а в 14.00 он сказал: «Ну что, товарищи, на обед мы с вами заработали». На обед заработали, понимаете? Он же потом ровно также управлял и всей страной. И доуправлялся.
В 1971 году в Минсельхозе было открытое партсобрание. Обсуждались актуальные, так сказать, проблемы. В какой-то момент, после доклада министра о закупке зерна, звучит: «Товарищи, есть вопросы?» Я встаю и говорю: «Будьте добры, объясните, почему мы закупаем за границей зерно по 100 рублей за тонну, а при этом не закупаем у наших совхозов - по 50, и входит ли в связи с этим в задачу нашего министерства на нынешнюю пятилетку обогащение зарубежных фермеров в ущерб трудящимся наших совхозов». Повисла такая тяжелейшая пауза, пос-ле которой председательствующий объявил перерыв.
Я первый раз в жизни такое видел: все выходят курить, и вокруг меня как будто вакуумная сфера. Три метра пустоты вокруг. На следующий день начались звонки, коллеги в трубку говорили: «молодец, Юрий Альсаныч!», но…
В общем, стало ясно, что пора менять мраморные лестницы на что-нибудь другое. Оставаться в Москве перед светлыми очами ЦК после такой плюхи было невозможно.
И я поехал на Колыму. Был командирован для оказания помощи вновь организующемуся советскому хозяйству, говоря языком документов. Жена уперлась: «Всех денег не заработаешь! Оставайся в Москве». Уговорил я свою Зою, поехали мы.
300 километров от Магадана. Вечная мерзлота. Двести километров на Запад - шахтерский городок. Еду возят самолетами, жрать людям нечего, а если и бывает, то не на что: золотые получаются помидоры, брильянтовые огурцы, мясо и птица - из области фантастики. Неплохой простор для работы, да?
Знаете, кто живет в Магаданской области? Докладываю: бывшие зэки, оставленные на поселении, бывшая вохра и военнослужащие. Я, слава Богу, умел с ними разговаривать - все-таки лагерное прошлое сказывалось. Всякое бывало. Иду как-то мимо теплицы и слышу: «Что ты мне указываешь? Ты кто такая? Забыла как в м…де моей ковырялась?» Захожу, спрашиваю в чем сыр-бор. А это зэчка бывшая со своей охранницей бывшей лагерной поссорилась, с вохровкой. При Сталине одна сидела, другая сторожила, а теперь обе в колхозе у меня работают.