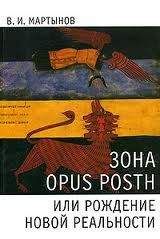Игорь ЧЕРНЫШОВ
«Я и есть тот самый бомж»
«Я и есть тот самый бомж»
Я, наверное, до недавнего времени был одним из немногих, до кого прорывался по телефону надтреснутый голос Юрия Могутина: "Стихи лезут и лезут. И ничего они мне не приносят: ни кола ни двора. Только звёзды считаю. И зачем они лезут, кому нужны? Сам, как таракан морёный, таблетки горстями глотаю. Едва ползаю. Едва говорю".
Интонация полной безнадёжности, опустелости: вот, кажется, прободила грудь невидимым шильцем разбойная рука, и весь живой воздух из нутра истёк, и неоткуда крупице радости взяться на сердце - так глухо, неотзывисто впереди.
Съёмный дворишко в Мичуринце, убогость лезет из каждой щели, травяная ветошь подпирает порог, дышит сквозь рассевшийся пол заосеневшая земля, тянет исподнизу стужей, как из ледяной погребицы, шуршат по обоям тараканы, нацеливаясь на босые пятки хозяина, и мыша-хлопотунья, которую некому унять, так и норовит спроворить последний сухарик, чтобы до утра шебаршать в дальнем углу хлебенной коркой.
Уже лет десять, как снял Могутин это норище, наверное, последний прислон, последний сиротский полустанок полуслепому, изжитому старому поэту; и ехать, братцы, некуда, и бросать эту землю Господь не велит: де, терпи, богоданный. А чемодан так и стоит неразобранный возле кровати, с приотпахнутой крышкой, словно бы ждёт окрика - пора съезжать[?]
А как хочется услышать тёплого голоса с небес в этой бесконечной ночи, чтобы Христос навестил, встал в дверях, насулил праздника; но Его всё нет и нет; а отяжелевшие яблоки так гулко падают за окном в чужом саду, будто сколачивают гроб за ближним углом на улице Карла Маркса. Прошлое совсем рядом, и грядущее уже у порога. Но душа-то не замирает, она молода, она полнится пережитым: и дождь ли обложной за окном, иль вызревшая багровая луна, прильнув к окну, просится на постой, иль зимний ветер-сиверик воет тоскливо, с причетами, нанося в углы серебристую снежную мучицу, - всё это, несмотря на тягость быванья, полно незамираемых чувств, красок, оттенков музыки печальной, всё просится в строку, хотя бы только что накануне из больнички приполз.
В больничной палате,
в чужом маскхалате,
В палате, где нас - как рабов на галере,
Гребу среди стонов на узкой кровати.
Учусь ежечасно терпенью и вере[?]
Меж смертью и жизнью
здесь нет разногласий.
Пропитаны болью, пульсируют стены.
Болезнь ни больных, ни больницы
не красит.
Поддатый прозектор выходит
на сцену.
Меня, как и вас, разыграли по нотам.
Попавшим сюда не прорваться
из круга.
И вы, либералы, и мы, патриоты,
Равны перед смертью и стоим
друг друга.
И снова стеснительный голос в телефоне. Боится Юрий потревожить навязчивостью, неловко ему, что вдруг не ко времени влез со своими переживаниями, такими обычными для нынешней страны: "Володя, прости. Не помешал? Может, не ко времени? Жизнь - галеры. Приковали - и гребу за тарелку пенсионного супа. Крупинка за крупинкой гоняется с дубинкой[?] Зачем живу? Чего жду? Бомж, настоящий бомж. И никому не нужен. Мне больше не с кем поговорить".
От такого внутреннего неустроя, душевной разладицы как не возопить, позабыв на время о гордости и мужестве: "Боже, Тебе звонит бездомный один человечек: Мне бы супчика с хлебом, Ласковый, добрый Боже! А в ответ: "С вами говорит автоответчик. Абонент недоступен. Перезвоните позже[?]"
Могутин - верный поклонник поэзии, и потому Господь не отнимает у него ни ума, ни души, ни таланта, ни сердечного многочувствия. Ему и нужен ответный отклик-оклик, чтобы удостовериться, что в земной жизни не одинок, не иголка в сене, которую не сыскать даже самому сердобольному доброхоту. Капля участия нужна. А весь скудный быт, куда задвинула его судьба, Могутин, не сознавая того, переможет, перетрёт, лишь бы Господь не отнял у него дара, а если поэтический родничок струит, не засыхает, значит, и жизнь вершится по высшей задумке. И это самое главное, чем обнадёживается, укрепляется в своём предназначении поэт, тот самый якорь спасения, которым можно зацепиться при крайней нужде за придонный камень-Одинец, когда обречённо стаскивает тебя течением жизни в небытие. И если жалуется мне Могутин на невыносимые скорби, то лишь в исполнение древнего научения: "Бог слёзы любит, любит жалобы, уединённые молитвы-просьбы пред иконою. Ведь если дитя не плачет, то и мать не разумеет".
Могутин часто обзывает себя "бомжем" лишь от потерянности, от ненужности народу, кому изливает свою душу, а родина, а государство, а собратья по литературному ордену не слышат его судьбы. Под чугунную плиту равнодушия и оглушающей нищеты ныне угодили миллионы, и это главное испытание человеку от Господа. Дескать, терпи, бажоный, и спасён будеши во веки веков. (Тут Церковь в выковке цепей невольно сбежалась с либеральной властью, отрицающей Бога.) И вот каждый несчастный, униженный и оскорблённый доживает сам по себе, как судьба помирволит. (Таково главное свойство либерального мира: рассыпать народ, превратить в песок. По самонадеянному признанию либералов: "Бог даёт деньги умным". Все остальные для них - быдло, плесень, иссыхающая при первых лучах ростовщического солнца. Ибо и солнце, оказывается, тоже восходит лишь по воле процентщика, умеющего ковать деньги.)
Но ошибаются они, помрачённые золотым тельцом. Ибо здание государства, отечества, родины, нации складывается не из фабрик и заводов, а из слов живых. (Ибо слово - это душа.) А для немых людей, легко меняющих совесть на бутерброд с икрою, слово - это песок, гравий и глина под стопами "человейника", чтобы вымостить ему дорогу в ад.
Под утро, когда последние строки, как колёсные пары паровоза, отдаляясь, ещё стучат в мозгу, и вспыхивает животный ужас: Боже мой, один на весь белый свет - кричи, не докричишься, словно заплутал в сибирских суземках, и солнце вдруг схитили бесы навсегда. Самое печальное и невыносимое - сбиться с путика, и весь мир тогда вдруг становится короче воробьиного носка, и анчутки слетаются отовсюду и жадно цепляются за пяты.
А потерять дорогу, свалиться под выскеть, в лесной бурелом так легко. Нахальные тварюшки скоро выпьют и вычеркнут из людской памяти. Вот и глаз один вытек, вставили стеклянный, и тот скоро выпал из глазницы, закатился в щель. И второй зрак покрыт туманом, рука вот отсыхает, ноги едва носят. А стихи приступают ежедень, будто "каппелевцы на Чапая".
Бомж я, несчастный бомжара[?]
Что же ты, Родина, мстишь
неразумным Гайдаром?
Не мазурка - пляшет мензурка в руке.
Я из тех "неуспешных", кого хазары
На голодном держат пайке.
[?]Юрий Николаевич, и никакой ты не "бомжара", несмотря на всю стужу и нужу, но человек, достойный поклонения. Бомж порывает с духовным миром, с картинами детства, с любовью, семьёй, с Богом, он отпускает свою душу на волю, ибо на том "дне", куда попадает, душа - страшная помеха. Бомж погружается в животное, звериное качество, откуда с таким трудом выполз когда-то человек, он выпадает из чувственного мира в бесчувственное, теряет Христов образ и не только изгоняет Бога из груди, но и утрачивает всякое желание походить на него; он смиренно, покорно источается плотию, как луговая трава, ждущая косаря. Это не блаженный и не юродивый, не калика перехожий, не милостынщик с зобенькой Христа ради, которые ни на минуту не забывают Сладчайшего. Грань близка, но непреодолима.
Поэт же живёт воображением; при малейшей попытке убежать в изгои, погрузиться в городские теснины он невольно теряет связь с небесами, откуда и навещают чувственные стихиры. Поэтому, наверное, и нет в истории литературы ни одного поэта (я не знаю), который бы упал в самые низы и порвал со стихами; он скорее сведёт счёты с жизнью, чтобы не надоедать миру своим присутствием, своей болью.
Хотя с образом бомжа ты пытаешься слиться (умственно); тебе с ним, наверное, приятно бы поладить, хотелось бы оказаться в одной упряжке, переломить один хлебец, испытать презрение и отчуждение сытых, тех, что надменно проходят мимо в бобровых шубах, - только бомж не переживает так остро от своего бездомья: это закалённый человек, он находит сугрев в подвале, в котельной, в собачьей будке, на дне бутылки. И потому это лишь умственная спайка. Бомж не боится оказаться в безымянной ямке. Он "цивилизованный" быт обменял на звериную волю. Можно жалеть бомжа, мысленно напяливать его шкуру, но никогда не понять его сущности. Пока сам не опустишься на то самое дно, когда-то красочно описанное Гиляровским и оромантизированное социалистом Горьким, жившим на Капри.