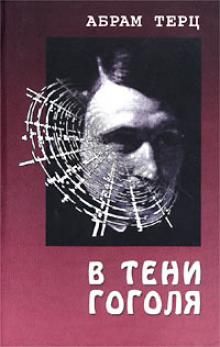О том же писал он Шевыреву (11 февраля н. ст. 1847 г.) — еще более прямолинейно:
«…Скажу тебе, что я пришел ко Христу скорее протестантским, чем католическим путем. Анализ над душой человека таким образом, каким его не производят другие люди, был причиной того, что я встретился со Христом, изумясь в Нем прежде мудрости человеческой и неслыханному дотоле знанью души, а потом уже поклонясь Божеству Его. Экзальтации у меня нет, скорей арифметический расчет: складываю просто, не горячась и не торопясь, цифры, и выходят сами собою суммы».
Протестантство, по всей вероятности, упомянуто для отмазки — чтобы рассеять подозрение собеседника в имевших место католических пристрастиях Гоголя. Но путь рассудка и подсчета знаменателен для автора, чьи христианские воззрения принято покрывать понятием болезненной мистики. Скорее логика и арифметика придают религии Гоголя неприятный и часто болезненный привкус, как будто дело души раскладывается по статистическим таблицам и схемам (то скрипят и лязгают части распадающегося состава) слышится какая-то сухость и жесткость, безблагодатная нравоучительность, механичность, элементарность.
«Мне кажется даже, что во мне и веры нет вовсе; признаю Христа Богочеловеком только потому, что так велит мне ум мой, а не вера…»
— казнился и каялся Гоголь накануне паломничества ко Гробу Господню (письмо М. А. Константиновскому, 12 января н. ст. 1848 г. Неаполь). Покаяние и смирение были следствием, однако, пережитого провала «Переписки с друзьями», когда Гоголь приутих в своем, учительском рвении, стал скромнее и осмотрительнее. До этого момента, в расцвете духовного делания, он был невыносим. Практикуемое в духе христианской аскетики, самовоспитание обставлялось у него настолько отталкивающими подробностями, что, право, было бы нравственнее не пытаться ему делаться лучше. Здесь сказывался опять-таки рациональный подход к заданию: духовные суммы складывались, как капитал в кубышку. Письма Гоголя к родным и знакомым полны сознания, что он становится лучше, выше, светлее (а то ли еще ждет впереди!), отчего тон его становился жестче, высокопарнее и высокомернее. Если же, как подобает доброму христианину, он сокрушался о своих недостатках, из сокрушенного состояния помогал ему выйти математически точный подсчет:
«…Вижу много в себе пороков, но они уже не те, которые были в прошлом году…»
Поэтому и незадачи с писательством в его глазах имели преходящий характер. Накопление добродетелей предполагало творческий рост; прочное дело души возводилось в обеспечение таланта; меду тем и другим устанавливалась связь, какую имеют в природе сообщающиеся сосуды; метод рассудочного анализа позволял довольно долго смотреть оптимистически в будущее и совершенствоваться с расчетом, что потери себя окупят.
«В писателе всё соединено с совершенствованием его таланта, и обратно: совершенствование таланта соединено с совершенствованием душевным» (А. М. Вьельегорской, 14 мая н. ст. 1846 г. Генуя).
По этой логике следовало, что развитие таланта в «Мертвых Душах» привело к осознанию порядка и плана нравственного развития автора, отчего должна воспоследовать новая цепная реакция — от душевного совершенства на пользу «Мертвым Душам». Всё это сообщало практике христианского воспитания оттенок налаженного хозяйства, выгодной промышленности. В отношении души Гоголь вел себя наторелым помещиком, уверенным в годовом доходе. Подобная аналогия, кстати, не показалась бы оскорбительной Гоголю, у которого задачи хозяйствования и управления, помещичий и административный инстинкт выдвинулись на первое место в то время, когда он давно уже покинул Россию и физически был разбит, а душевно находился как бы в уединенном затворничестве. Хозяйственная проблематика «Мертвых Душ», в особенности второго тома, потрафляла практической хватке пробудившегося рассудка, для которого дело души служило отмычкой и прототипом всякого дела литературного, государственного, экономического и т. д. Оно позволяло всякую вещь поставить в надлежащее место, дать ей разумный ход, достойное употребление. Сидя в Риме, Гоголь слал рескрипты во все концы Российской Империи, нити которой незримо сходились к его душе, производившей над собою образцово-показательный опыт. Пребывание в Вечном городе, как нарочно ему отведенном для свершения духовного подвига, укрепляло его в сознании центрального положения в мире. Его письма из-за границы, задолго до написания книги «Выбранных мест из переписки с друзьями», походили на послания наставнического характера, подавали ближним пример истинного жизнеустройства, — книга выкристаллизовалась из длительных упражнений в роли всеобщего пастыря, осененного мирообъемлющим куполом храма Святого Петра. Гоголь оказывался единственным, незаменимым на всю Россию, добрым хлопотуном и советчиком, ибо в собственной душе первым клал краеугольный камень.
«Один, может быть, человек нашелся на всей Руси, который более всех подумал о самом существенном…»
— сетовал он на недостаточно преданное и доверчивое, как ему слышалось, отношение друзей (письмо П. А. Плетневу, 20 июля н. ст. 1846 г.). Как ему было унять распорядительскую жилку, если, согласно его разумению, прочная обработка души содержала разрешение всех вопросов и давала ему мандат на духовное руководство. По этому проекту писатель, подвергавший себя неустанному христианскому воспитанию, становился и наилучшим гражданином своей земли, проникался пониманием прочих видов и степеней человеческой жизнедеятельности, проявляя незаурядные качества мастера на все руки. Подобно тому, как несколько раньше из Гоголя выделился рационалист-аналитик в доскональное изучение плана своей деятельности и души, из него же на склоне жизни выделился практик-хозяйственник, взявшийся всех обучать самым разнообразным занятиям. (Видать, вся система души его шла уже на слом, под откос.)
«Несмотря на то, что я считаюсь в глазах многих человеком беспутным и то, что называется поэтом, живущим в каком-то тридевятом государстве, я родился быть хозяином и даже всегда чувствовал любовь к хозяйству, и даже, невидимо от всех, приобретал весьма многие качества хозяйственные… Мне следовало до времени, бросивши всю житейскую заботу, поработать внутренно над тем хозяйством, которое прежде всего должен устроить человек и без которого не пойдут никакие житейские заботы. Но теперь, слава Богу, самое трудное устрояется; теперь могу приняться и за житейские заботы и, может быть, с таким успехом займусь ими, что даже изумишься, откуда взялся во мне такой положительный и обстоятельный человек» (П. А. Плетневу, 12 декабря н. ст. 1846 г. Неаполь).
Документами биографии Гоголя можно без труда подтвердить, что он не слишком преувеличивал и положительный человек, преуспевающий на хозяйственном фронте, был заложен в нем едва ли не с детства. Однако он выявился и сложился в какую-то самостоятельную фигуру (наряду с человеком, чье призвание заключалось в государственной службе, наряду с развившимся даром и опытом духовника и другими, неизвестными ранее, областями и должностями, к которым Гоголь тянул свою высохшую руку) лишь в период разложения его единого душевного строя, который, подвергаясь анализу, подлежал и рациональной увязке. Гоголь-хозяйственник образовался из распадающегося таланта художника, скрывавшего в собственных недрах немало подобных неосуществленных сторон и возможностей. Но извне разрушение личности одевалось в схему последовательного и логического развития. «Дело души» обращалось в фундамент всестороннего прожектерства.
Христианское «дело души» стало для Гоголя ключевым звеном в цепи всемирных явлений, потянув за которое, можно вытащить всю остальную цепь. В истории русской мысли найдется довольно примеров столь же прямого расчета на какое-то одно спасительное звено, будь то «разумный эгоизм», «непротивление злу насилием» или «развитие капитализма в России». В широком смысле то были поиски какого-то универсального двигателя, магического корня, петушьего слова, обладатель которого заручался правами творить чудеса в мировом масштабе. Всякий раз, понятно, очередное открытие решающего звена облекалось в подобающие эпохе и умонастроению автора идеологические покровы и формы. Начинались наши обычные разногласия на тему, в какой книге можно всё это прочитать и изучить, с тем чтобы, опережая события, стать ее прямым носителем в жизни. Гоголь много не читал, но, чтобы не блуждать понапрасну, первым из русских мыслителей XIX века перечитал Евангелие. В этом его великая историческая заслуга. Но вычитал он оттуда по преимуществу план вытягивания всего бытия посредством единого «корня» и практически приложимую, вплоть до способов хозяйствовать, схему разумного мироустройства, где всё само собою, будто по волшебству, вяжется в крепкую цепь логических посылок и следствий. Логика и рассудок (как в иной системе идей, допустим, «научность» конструкции) обеспечивали бесперебойный процесс воздействия волшебного звена на все остальные звенья и служили, таким образом, формой изложения магических по существу операций, производившихся под видом разумного и нравственного труда. Логика и рассудок придавали душевному делу необходимый автоматизм и добивались того, что всё по мановению ока начинало сообщаться и вытекать одно из другого. Вместе с тем рассудок и логика служили как бы объективным, благопристойным коррективом чудесного в своей потенции действия и гарантировали его своевременность, связь с прогрессом и просвещением. Христианское вероучение, с другой стороны, сообщало ему святость, подкрепляло своим тысячелетним авторитетом и поддерживало в уверенности, что автор, не мудрствуя лукаво, исполняет волю пославшего его Провидения. Упорство, с каким Гоголь, до одури, вытягивал «дело души» в твердом расчете, что за этим само собою воспоследует всё остальное, свидетельствует, что все его аргументы, все внутренние ресурсы и стимулы сошлись в этой точке. Ему даже не приходило в голову, что кто-то может отвергнуть его проект, приведя достаточно веские и разумные возражения.