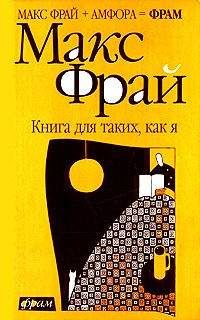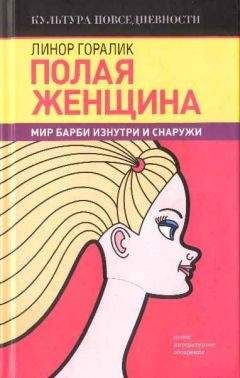Пижон всегда найдет место для демонстрации "убитых тигров", даже если сам считает их "дохлыми кошками". <…> В обычную ситуацию он вносит необычный элемент. <…> О пижонах слагают легенды. Пижон любит потрепаться и делает это самозабвенно. С ним легко общаться, с ним можно идти куда угодно: он не бросит, вытянет, вытащит, даже рискуя собой, причем — из чистого пижонства…
Суть "послания о пижонах" сводилась к тому, что я сам — пижон и аудитория моя вербуется исключительно из пижонов; причем автор письма предлагал расценивать это как позитивный фактор.
Ну да, а как иначе-то?
Следующее событие. Одна милая девушка посоветовала мне внимательно перечитать русскую народную сказку «Колобок». Я, забавы ради, послушался. И эта незамысловатая детская сказка, основанная на медитативных повторах постепенно удлиняющейся песенки, вдруг показалась мне своего рода притчей, предостережением всем храбрым путешественникам, которым уже удалось уйти от «бабушки», "дедушки", «зайца», "волка" и «медведя». "Лиса", в некотором смысле, всегда рядом с нами; она терпеливо ждет своего часа, когда мы доверчиво полезем в ее открытую пасть, чтобы рассказать столь благодарному и внимательному слушателю о своей исключительности… Пижонство, знаете ли.
И, наконец, мне пришлось заняться составлением краткой, в один абзац, биографической справки о Германе Гессе. Я почему-то отнесся к этому делу с чрезмерной серьезностью и внимательно перечитал его автобиографические эссе: "Краткое жизнеописание" и "Детство волшебника"; в "Кратком жизнеописании" я, как ни странно, нашел строки, прекрасно характеризующие и «Колобков», и «пижонов»:
Я был ребенком благочестивых родителей, которых любил нежно и любил бы еще нежнее, если бы меня уже весьма рано не позаботились ознакомить с четвертой заповедью. Горе в том, что заповеди, сколь бы правильны, сколь бы благостны по своему смыслу они ни были, неизменно оказывали на меня худое действие; будучи по натуре агнцем и уступчивым, словно мыльный пузырь, я перед лицом заповедей любого рода всегда выказывал себя строптивым, особенно в юности. Стоило мне услышать "ты должен", как во мне все переворачивалось и я снова становился неисправим1.
Отчаянное, упрямое сопротивление миру — самая редкая и благородная разновидность пижонства; самая опасная, но единственная, сулящая надежду.
Мой странный пасьянс сошелся; в ушах зашумели шепоты: Я родился под конец Нового времени, незадолго до первых примет возвращения средневековья2, я от бабушки ушел, я от дедушки ушел3, и милее всего другого представлялось мне занятие волшебника, глубочайшее, сокровеннейшее устремление моих инстинктов побуждало меня не довольствоваться тем, что называют «действительностью» и что временами казалось мне глупой выдумкой взрослых; я рано привык то с испугом, то с насмешкой отклонять эту действительность, и во мне горело желание околдовать ее, преобразить, вывести за ее собственные пределы4, а от тебя, лисы, нехитро уйти5, потому что я достаточно продвинулся по восточному пути Лао-цзы и "И цзина", чтобы ясно распознать случайный, а потому податливый характер так называемой действительности6…
Можно перевернуть мир, не имея даже пресловутой "точки опоры" — из чистого пижонства. Возможно, пижонство — необходимое и достаточное условие для того, чтобы назвать свою автобиографию "Детством волшебника". Главное уйти от лисы, которая всегда где-то рядом и ждет, когда наивный волшебник-пижон сам прыгнет ей в пасть, чтобы взахлеб поведать единственному благодарному слушателю свое "Краткое жизнеописание".
2000 г.
Кто-то сказал мне, что добрый волшебник отечественной словесности Борис Акунин «убил» Эраста Фандорина1, поскольку решил расстаться с издателем Захаровым, с которым подписан контракт на "фандоринский цикл". Фандорин, впрочем, живехонек; возможно, и в том, что касается житейских обстоятельств его создателя, меня обманули, и все обстояло не так. Но история хороша сама по себе: если имена Акунина, Фандорина и Захарова заменить на безличные X, Y и Z, она станет еще более наглядной и поучительной. "Литератор X был вынужден убить своего героя Y, поскольку решил расстаться с издателем Z, обладающим правами на «игрековский» сериал". Вот такие условия задачи.
Жизнь литературного персонажа вообще недорого стоит.
"Добрый доктор" сэр Артур Конан Дойл, поражавший знакомых своей незлобивостью, хладнокровно прикончил беднягу Шерлока Холмса просто потому, что тот ему наскучил. Он решил, что две повести и двадцать три детективных рассказа о сыщике — более чем достаточно для "исторического романиста", каковым сам сэр Артур искренне себя полагал. «Конфликт» с издателями в его случае носил совершенно комический характер: Конан Дойл требовал от издателей непомерных гонораров, надеясь, что они убоятся разорения и откажутся от желания опубликовать новые истории о Холмсе, а упрямцы-издатели, вздыхая, выворачивали карманы. Пришлось пойти на убийство.
Холмс, впрочем, вскоре воскрес (благодаря не столько требованиям возмущенной публики, сколько собственной почти мистической незаменимости: выяснилось, что не только читатели, но и сам автор не может без него обойтись). Но, как и воскрешение Остапа Бендера, это уже совсем другая история.
…Рассказывали даже о крупной ссоре, возникшей по следующему поводу: убить ли героя романа "12 стульев" Остапа Бендера или оставить в живых? Не забывали упомянуть о том, что участь героя решилась жребием. В сахарницу были положены две бумажки, на одной из которых дрожащей рукой был изображен череп и две куриные косточки. Вынулся череп — и через полчаса великого комбинатора не стало. Он был прирезан бритвой1.
Ильф и Петров переложили ответственность за участь Остапа Бендера на призрачные плечи фатума. Полагается считать эту историю забавной; я же прочитал ее в детстве (возможно, слишком рано) и испугался. Судьба с тех пор неизбежно ассоциируется у меня с очень конкретной, почти осязаемой, а потому особенно безжалостной ильфопетровской сахарницей. Писатели, конечно, поступили и мудро, и забавно, но для меня их сахарница — лишнее подтверждение того факта, что…
…жизнь литературного персонажа недорого стоит.
Резюме. На сей раз по-детски наивное.
Кто-то пишет книгу о наших похождениях. Будем надеяться, что мы ему еще не слишком надоели, а отношения этого таинственного незнакомца и его еще более таинственного «издателя» пока складываются благополучно. Впрочем, не следует забывать о сахарнице…
…Есть, впрочем, еще один мизерный шанс: как вы помните, и Холмс, и Бендер оказались незаменимыми. Чем черт не шутит? В конце концов, на свете смерти нет1.
2000 г.
Год назад в это время я взахлеб гулял по Праге, сочинял всяческие дурацкие теории касательно удивительной способности этого города привораживать нашего брата туриста (версия о тайных знаках, когда-то начертанных на каменных мостовых Праги многочисленными профессиональными каббалистами, — это еще одна из самых пристойных).
По странной иронии судьбы обнаруживаю в свежих «Итогах» небольшое эссе Игоря Померанцева, который, в отличие от меня, в Праге живет и работает. Домовладелец его достал, насколько я понимаю. И соседи достали: количеством дверных щеколд и дурацкой манерой оставлять обувь у входа. Прага для Померанцева — метафизическое захолустье; и как-то так получается, что возразить ему нечего. Стоит только представить себе пыльные штиблеты, выстроившиеся в ряд на истертом половичке, лязг ржавеющих щеколд, смущенно сглатывающего слюну домовладельца пана Подмышичку — тоска-а-а-а…
Впрочем, в финале Померанцев как бы (словно бы, будто бы) добровольно отрекается от собственного ворчания, делает галантный реверанс влюбленной в Прагу Цветаевой и смиренно заключает: В споре поэта с жильцом всегда прав поэт.
На самом-то деле все еще проще и как бы (словно бы, будто бы) глобальнее. Не на поэтов и жильцов следовало бы делить человечество, а на туристов и аборигенов, кочевников и оседлых, обывателей и транзитных пассажиров. В споре туриста и жильца (постоянного обитателя) всегда будет прав турист. Потому что он видит все как бы (словно бы, будто бы) в первый раз и имеет некоторые основания предполагать, что первый раз, может статься, равнозначен последнему: нигде так остро не ощущаешь хрупкость своей судьбы, как в дороге…
Поэтому турист пребывает в состоянии искренней и, что самое главное, бескорыстной восторженности: ему здесь не жить, не ходить за зубной пастой в аптеку на углу, не обшаривать глазами рыбный рынок в поисках подходящего товара, не ездить каждый день на службу одним и тем же трамваем. Поэтому интересоваться турист станет не ценами в супермаркетах, не манерами таксистов, не дурацкими привычками местных обывателей и не регулярностью передвижения маршрутных автобусов, а, скажем, цветом и формой тени древнего собора на рассвете/закате, оттенком сияния фонарей в Старом Городе, узорами витражей и зыбкими границами зон настроений (в незнакомом городе почему-то сразу чувствуешь, почти воочию видишь, как печальный квартал сменяется кварталом безмятежным — и ведь не в архитектуре, не в убранстве витрин и даже не в освещении дело; а в знакомом, обжитом городе границы эти почувствовать почти невозможно… ну да ладно).